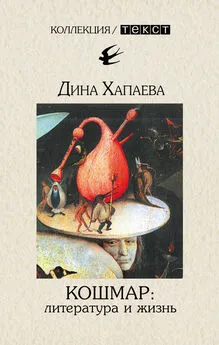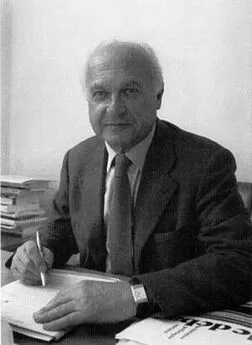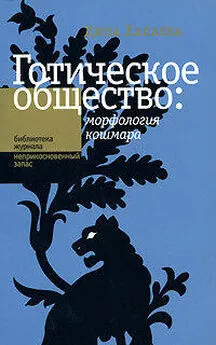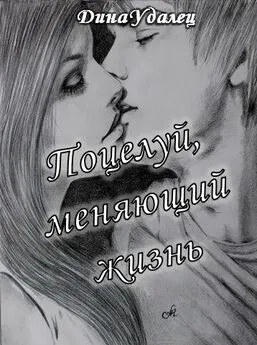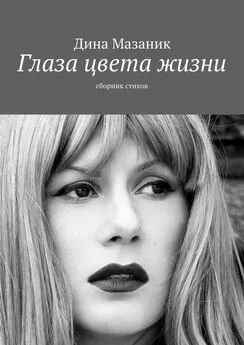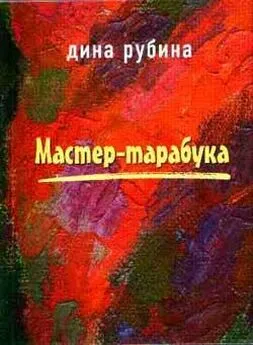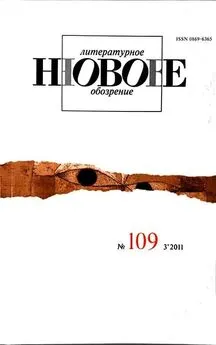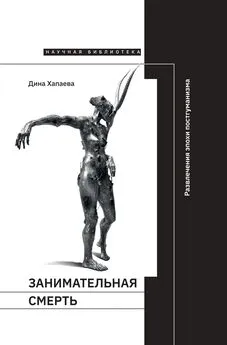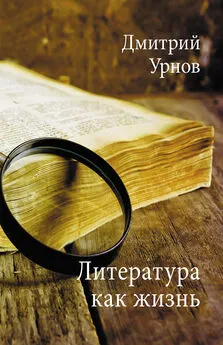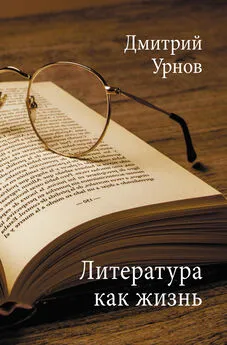Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь
- Название:Кошмар: литература и жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-7516-089
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь краткое содержание
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях. В книге Дины Хапаевой впервые предпринимается попытка прочесть эти тексты как исследования о природе кошмара и восстановить мозаику совпадений, благодаря которым литературный эксперимент превратился в нашу повседневность.
Кошмар: литература и жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другое дело, когда автор ставит перед собой совсем иную задачу – выявить, насколько читатель может быть порабощен литературой, забыться под воздействием художественного текста. Когда текст, а не какой-то конкретный человек, описываемый в нем, и есть больной, который сходит с ума – сводит читателя с ума? Обезумевший текст, безо всякой претензии на правдоподобие, текст, в котором не соблюдаются никакие привычные конвенции. Читатель должен остаться с ним наедине и поверить в его подлинность. Испытание, в котором автор резко ужесточает условия опыта: я тебе даже не скажу, что здесь кто-то есть на самом деле. Текст, который лежит перед тобой, – это чистое слово, лишенное всякого правдоподобного автора. О реальности происходящего в нем ты можешь судить по переписывающимся собачкам. Перед тобой, читатель, просто безумный текст, текст, построенный для того, чтобы лишить тебя всякой подкрепы литературной реальности, и посмотрим, как ты, читатель, будешь на него реагировать [102] . Ведь все его «правдоподобие», которое я создаю для тебя, – оно вымышлено, оно – плод моей фантазии и моего искусства, но ты будешь верить мне, даже читая переписку собачек в записках сумасшедшего!
В «Носе» есть хотя бы канва с претензией на «настоящую историю». По крайней мере, там автор сообщает нам, что есть такой майор Ковалев, и мы – непонятно, правда, почему – доверяем автору, поддаемся его претензиям на правдоподобие, впрочем, тоже не слишком навязчивым. Тогда как в «Записках» нет даже этих скромных уступок, автор больше не идет ни на какие компромиссы: есть только безумный текст, этакая дистиллированная литература, чистый абсурд, экстракт литературной автореференциальности, – и подопытный читатель.
Итак, разберемся теперь с вопросом – зачем понадобился жанр дневника? Почему безумие должно было быть выражено посредством дневниковой записи? Потому что письмо способно прикрепить безумие к бумаге и обуздать его, как в офортах Гойи, или потому, что безумие само заключено в письме, как скажет потом Достоевский?
Противопоставление абсурда печатного слова и его неизменной власти над публикой проходит по крайней мере через три повести – «Портрет», «Нос», «Записки сумасшедшего», в каждой из которых абсурд, о котором пишут газеты, рассматривается героями как подлинная реальность. Более того, сколь бы нелепа ни была нелепица, будучи написанной, она становится более правдоподобной, как бы удваивая за счет письма, превращения в текст, свою жизненную силу, свою реальность. Вот как отзывается о прессе Гоголь в «Записках сумасшедшего»: «Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю» [103] . Не забудем, что в конце концов именно чтение газеты и изложенных в ней новостей окончательно сводит Поприщина с ума. Но только ли о четвертой власти, которая еще находится в пеленках, беспокоится Гоголь? Что волнует его – сила рекламы и власть печатного слова, которому, как известно, все доверяют? Или же речь идет о чем-то другом? Может быть, в этом эксперименте Гоголь заходит еще дальше и задается вопросом – не может ли художественное слово, потеряв над собой контроль, приобрести самостоятельную власть и подчинить себе культуру? Не в слове ли скрывается начало кошмара, вход в «сумасшествие природы», которое способно подчинить себе человека? Иными словами, не мог ли Гоголь предполагать и предчувствовать начала кошмара современной культуры?
Обезумевший текст и есть овеществленный кошмар – таков результат очень смелого эксперимента, тот шаг в будущее, который делает Гоголь по пути материализации кошмара в современной культуре. Крик, который звучит в конце «Записок сумасшедшего», – это крик автора, испугавшегося созданного им кошмара. Неуверенность, что он сможет освободиться от кошмара, позже заставит Гоголя оборвать свои опыты и отказаться от поиска спасения в литературе.
ГОГОЛЬ И ЧЕРТ: МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ КОШМАРА
Религия снабдила его тональностью и методом. Сомнительно, чтобы она одарила его чем-нибудь еще.
В. Набоков
Смех Гоголя – это борьба человека с чертом.
Д.С. Мережковский.
Итак, мы подошли вплотную к вопросу о том, зачем Гоголь ставил свои опыты. То, что Гоголь, поверив в силу своего таланта и в преобразующую силу искусства, решил изменить мир с помощью литературы, – общеизвестный факт его творческой биографии. Мессианизм Гоголя, стремление усовершенствовать человека словом были, несомненно, главным движущим мотивом творчества писателя:
Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространяется какая-нибудь польза душе и не останется от него поучения людям [104] .
Исходя этого убеждения, с характерной для него скрытностью пытаясь понять, как и в каких пределах можно использовать литературу в целях преобразования человека, Гоголь и начинает ставить свои опыты над читателем. Проговоркой об этом звучит признание из письма Анненкову:
Все мы ищем того же: (…) законной желанной середины, уничтоженья лжи и преувеличенностей во всем и снятия грубой коры, грубых толкований, в которые способен человек облекать самые великие и самые простые истины. Но все мы стремимся к тому различными дорогами, смотря по разнообразию данных нам способностей и свойств, в нас работающих. Один стремится к тому путем религии и самопознанья внутреннего, другой – путем изысканий исторических и опыта (над другими) (…)Вот почему всякому необыкновенному человеку следует до времени не обнаруживать своего внутреннего процесса (…): всякое слово его будет принято в другом смысле, и что в нем состояние переходное, то будет принято другими за нормальное [105] .
Разочарование, последовавшее за постановкой «Ревизора», лишь отчасти и ненадолго поколебало его веру в то, что искусство является важнейшей силой в мире:
Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому. Я решил собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось (…) [106]
Работая над ранними редакциями «Петербургских повестей», молодой автор поначалу еще не до конца отдавал себе отчет в том, как далеко заведут его опыты и сколь велика мощь, к которой он осмелился прикоснуться. Лишь постепенно игрушка гения, магическую силу которой он сам раскрывает только в процессе создания своего подопытного читателя, превращается под его пером в сознательную стратегию, развивающуюся в серию творческих приемов, которые делают неподражаемой его прозу. Вероятно, серьезная переработка отдельных мест «Петербургских повестей», которой зрелый писатель подверг их для издания 1842 г., была вызвана гораздо более точным осознанием им своего проекта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: