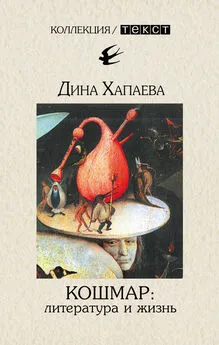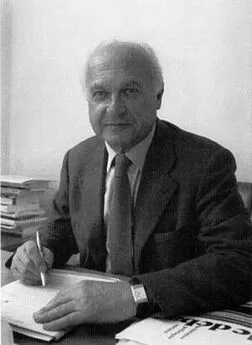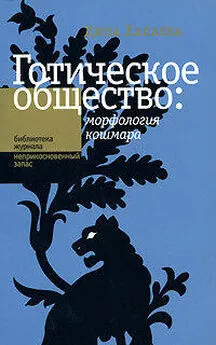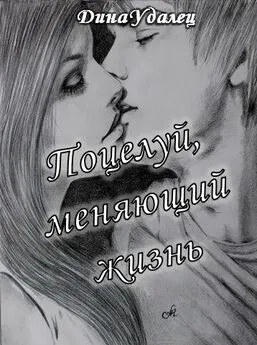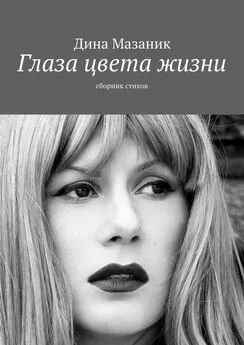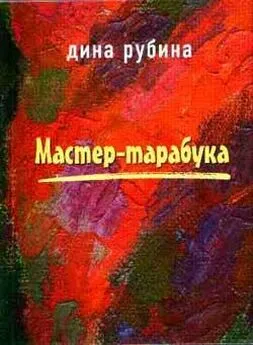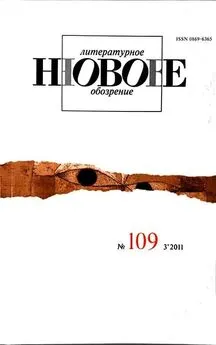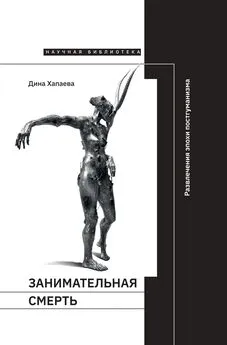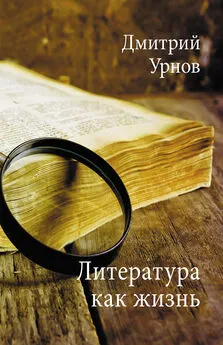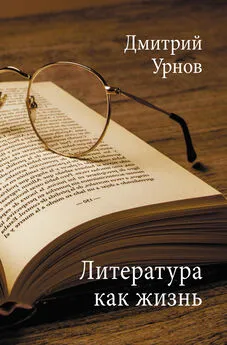Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь
- Название:Кошмар: литература и жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-7516-089
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь краткое содержание
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях. В книге Дины Хапаевой впервые предпринимается попытка прочесть эти тексты как исследования о природе кошмара и восстановить мозаику совпадений, благодаря которым литературный эксперимент превратился в нашу повседневность.
Кошмар: литература и жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Убийство тоже способно заставить зазвучать инфернальную музыку на страницах современных романов. Так, Петька, только что задушив своего приятеля, сел к роялю «и стал тихо наигрывать из Моцарта, свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук…» [154] . Эта фуга Моцарта превращается в лейтмотив кошмаров романа. В следующий раз герой слышит ее по радио в сумасшедшем доме, в исполнении группы «Воспаление придатков»: «Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе» [155] . Та же фуга – тема нового кошмара Петьки, который, проснувшись после кошмара постсоветской психбольницы в революционной Москве, в квартире, где остался лежать труп задушенного приятеля, снова слышит ее, но уже в исполнении Чапаева [156] . Похоже, что эта вещь Моцарта помогает поддерживать единство рассказа, является его постоянным и неизменным ключом. Ведь ничто не свидетельствует в пользу неизменности идентичности рассказчика, – мы даже не можем утверждать, что есть только один Петька.
Помимо фуги в «Чапаеве» есть еще один предмет, природа которого весьма загадочна. Это – орден Октябрьской звезды. За исключением понятной насмешки над советской символикой, мы ничего не знаем ни о нем – ни орденом какой страны или общества он является, ни за какие заслуги его дают. Кроме одного: орден с удивительным постоянством переходит из кошмара в кошмар, оставаясь связующей нитью повествования [157] . Может быть, секрет ордена состоит в том, что он и есть точка, на которой сконцентрировался взгляд рассказчика-сновидца, точка, из которой и родились все описываемые в романе кошмары?
Только до тех пор, пока фуга звучит из кошмара в кошмар, а орден Октябрьской звезды переносится из истории в историю, мы можем быть уверены в том, что читаем единое произведение. Путеводная нить в кошмарах, фуга превращается в важнейшее акустическое связующе звено повествования, а орден – в визуальное. Музыка, как и зрительная точка в пространстве, приковывает к себе внимание, и ее аккомпанемент помогает нам углубиться в кошмар.
Но можем ли мы с уверенностью заключить, положившись на анализ Пелевина, что, когда мы видим кошмары, мы действительно слышим какую-то музыку? Иными словами, является ли музыка частью нашего опыта кошмара? Или, несмотря на ее распространенность в литературе, инфернальная музыка – лишь метафора, скрывающая собой особое свойство кошмара? Ответить на эти вопросы мы сможем несколько позже, обратившись к творчеству Достоевского.
ВРЕМЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
Теперь поговорим о том, что творится в кошмаре, ибо у кошмара, несмотря на все разнообразие ночных ужасов, есть один наиболее часто повторяющийся сюжет – это преследование. Бегство или погоня и есть то главное, что мы запоминаем и с замиранием сердца пересказываем утром близким. «Краткое содержание» кошмара практически всегда сводится к попытке ускользнуть, скрыться, спастись от рокового неминуемого ужаса, от которого, по правилам всякого кошмара, нет, и не может быть спасения. Бегство выражает стремление уклониться от неминуемой катастрофы, от чудовищных обстоятельств, избежать страшного знания того, что неотвратимо надвигается на тебя. Тщетные попытки изменить то, что изменить невозможно, не дать случиться тому, что неизбежно должно произойти, избежать столкновения с тем, что будет, или с тем, что уже есть, но в чем сновидец – жертва кошмара – отчаянно боится себе признаться, тоже есть один из вариантов бегства, необратимости надвигающегося рока. И хотя мы практически всегда просыпаемся прежде, чем на нас обрушивается самое страшное, спастись от наступающего кошмара нам практически никогда не удается.
Преследование происходит со сверхъестественной, фантастической скоростью, когда мгновенно чередуются события, молниеносно меняется ритм, а сновидец ощущает колоссальные перегрузки от немыслимых ускорений [158] .
Кто же гонится за нами по пятам и от кого – или от чего? – мы «силимся бежать»? Что мы переживаем и какой опыт мы пытаемся передать, проснувшись, несмотря на то что выразить его так трудно? И в чем причина навязчивого повторения бегства и погони в наших кошмарах?
Кто-то идет со мною рядом, но кто – я не вижу (…) когда я подхожу к повороту, мне становится страшно, не знаю почему. Здесь, в узком тупике, стоит дом, в котором я жил ребенком, а теперь там кто-то ждет меня и хочет мне что-то сказать. Я бросаюсь бежать от этого дома. Идет блэкуоллский омнибус, я бегу ему наперерез, хочу остановить лошадей – и вдруг вижу, что это уже не лошади, а лошадиные скелеты, и они галопом уносятся от меня прочь. Ноги у меня будто налиты свинцом, а какое-то существо, которого я не вижу, хватает меня за руку и тащит меня обратно в дом.
Оно заставляет меня войти в дом, дверь за нами захлопывается – и гул прокатывается по комнатам. (…) Я взбираюсь на верхний этаж, где была моя детская. (…) В комнату входит какой-то старик, сгорбленный, весь в морщинах, в поднятой руке он держит лампу. Я вглядываюсь в его лицо и вижу, что это я сам. Входит кто-то другой, и этот другой – тоже я. Они идут один за другим – и комната наполняется все новыми и новыми лицами, а сколько их еще на лестнице! Они заполонили весь этот заброшенный дом. Одни старые, другие молодые, есть среди них приятные, они улыбаются мне, но есть и противные, их много, и они злобно на меня косятся. И каждое из этих лиц – мое собственное лицо, но ни одно из них не похоже на другое.
Я не знаю, почему мне так страшно видеть самого себя, но я в ужасе убегаю из этого дома, и все эти лица бросаются за мной в погоню. Я бегу быстрее и быстрее, но я знаю, что мне все равно от них не убежать [159] .
Так передает кошмар в своем неоконченном произведении «Наброски для романа 1891 г.» Джером К. Джером. Ужас кошмара здесь схвачен очень точно: он – в совмещении разных времен, в совпадении в едином пространстве дома детства лирического героя, прошлого, настоящего и будущего его собственной жизни и в вопиющей прерывности течения собственного времени героя, обретшего в кошмаре образы отдельных самостоятельных ипостасей. Это описание раскрывает одну принципиальную особенность кошмара как психологического состояния: бегство является способом говорить о катастрофе выпадения из привычного течения времени.
Когда нам снится, что нас преследует убийца или что мы пытаемся предотвратить ужасное событие, – это выражает субъективное переживание изменения хода времени, которое оборачивается прорывом в другую темпоральность, в другое время – или часто пробуждением. Соскальзывание в эту темпоральность сознание ощущает как катаклизм. Что объясняет и другую важную черту кошмара – способность менять местами последовательность прошлого и будущего, перемещать события не в свое время, спутанность порядка причин и следствий, причудливо искажающих предметы и уродующих пространство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: