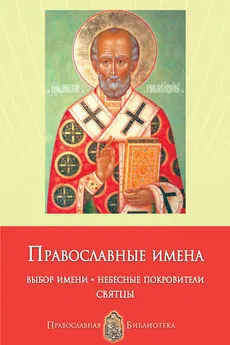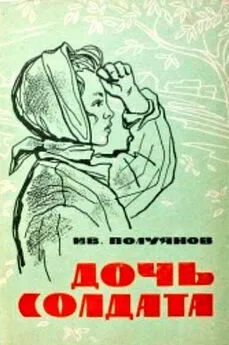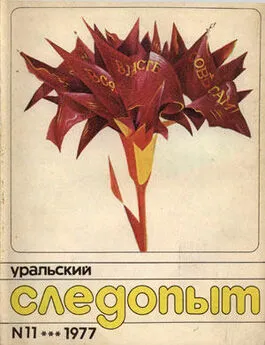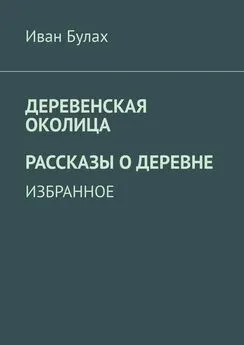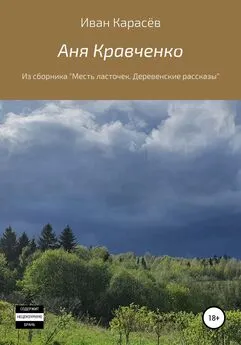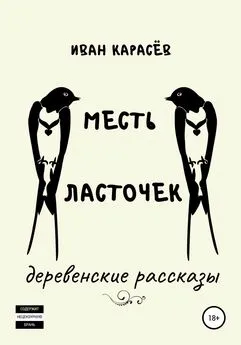Иван Полуянов - Деревенские святцы
- Название:Деревенские святцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Технологическая школа бизнеса
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Полуянов - Деревенские святцы краткое содержание
Книга известного вологодского писателя И.Д.Полуянова заново открывает для читателей почти забытую традицию народного творчества. Автор в буквальном смысле слова реконструирует устные численники-месяцесловы, своего рода деревенские святцы, тесно связанные со святцами духовными. В противоположность нынешним сухим и строгим календарям, связывающим лишь день недели и число, раньше каждый день был наособицу, и только ему сопутствовали определенные приметы, меткие речения, прибаутки, песни, обряды. Деревенские святцы органично и функционально вписывались в быт русской деревни. В них ярко и выпукло отразилась духовная жизнь крестьян.
О днях празднования Входа Господня в Иерусалим, праздника праздников — Пасхи, Вознесения, Троицы, а также сырной седмицы — масленицы, о постах, днях памяти святых, о молитвенном почитании чудотворных икон, других торжествах Православия подробно говорится в «Православном церковном календаре», выходящем в свет ежегодно. Некоторые даты приведены здесь — по месяцам, предваряя рассказ о земледельческом годовом круге устных народных месяцесловов.
Деревенские святцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иеромонах Киевской Глинецкой обители преподобный Герасим пришел на пеку Вологду в 1147 году. Деятельный инок воздвиг храм Пресвятой Троицы и основал вне пределов поселения, за Кайсаровым ручьем, одноименный монастырь, первый Троицкий на Севере. Большинство жителей окрест были язычники, проповедь новой веры часто встречала сопротивление.
Преставился преподобный 17 марта 1178 года. За мирные подвиги на ниве христианского просвещения Герасима нарекли апостолом Вологодского края.
18 марта — Канон.
В устных календарях — огородник.
Ткнуть в снег лопатой, и уже отметился, почтил покровителя овощеводов!
С Канона в сельце Кумзеро Кадниковского уезда брала разбег ежегодная ярмарка.
Стекался, съезжался люд продать подороже, купить подешевле. Посланцы Сямжи, Белозерска, Холмогор, Казани, не говоря о близкой Тимонихе, о Бирякове. Ситцы, одежда, обувь. Косы, плуги, бороны. В рядах теснота, полки ломятся от товаров.
Свое выставлено — опять ряды. Куделя, кружева, холсты, мед, масло льняное. Там деготь, смола, тут связки веревок-ужищ, овечьи шкуры. Бочки, кади, ушаты…
Вон самовары блещут боками: пузатые ведерные и фигуристые, в рюмочку. Жаром горит латунь, словно серебро, блестит никель.
Граммофон пялит раструб:
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина…
Девицы на выданье, бабы-молодки толкутся у россыпей колечек, сережек, бус, там, где фабричные нитки и платки, где разноцветные красноборские пояса, шелковые ленты.
Парни пробуют кирилловские гармоники: которая голосистей, напевней, чтоб у дроли сердце таяло, чтоб у соперников от зависти волосья шишом.
Мужики — у коновязей, подле лошадей, пригнанных на продажу, возле кулей зерна. Не прикупить ли семенного? Мука-крупчатка в мешках — пудовичках. Спрос не беда:
— Чей помол-то?
— Елецкий! Купишь, почтенный, — не покаешься! — готов у приказчика ответ.
Женщины постарше, домовитые болыпухи, около посуды: ею торгуют прямо с возов.
Глиняная: разлевы — под коровье масло, топушки с рыльцем и прямой ручкой — разогревать его. Латки — мясо тушить, штеники — щи в печь ставить. Корчаги — пиво варить, а пощеляют — угля для самовара сыпать.
Богат выбор деревянной посуды. Ставень — кушанье на стол подать, не боись, не остынет; скопкарь, чаша из древесного наплыва в виде птицы-утицы — квас и пиво разливать; хандейка — пиво-квас пить; ручонка — воду в ней держать.
О бересте, лыке и говорить не приходится: груды зобенок, пестерей, туесов, наберух — под гриб-ягоду лесную, груздь бел, кислу клюкву-журавлйку…
Оборот ярмарки выражался суммой в 100 тысяч рублей, по нему сельцо на озерном берегу смело равнялось с уездными городами в общем-то сельской тогда губернии.
Вот это уважение крестьянскому люду, если в Кумзеро с товарами наезжали аж из Казани!
20 марта — Василий.
В устных календарях — северный капельник.
«Прилетели грачи, стали зиму толчи», «Зима убегает темными ночами». Так, может, приспело время потайки поздравстовать?
Приспело, правда, для нас не без оговорки: «С крыш капает, а за нос цапает».
21 марта — Лазарь и Афанасий, известные преимущественно волостям Олонецкой округи, где службами в церквах чествовали преподобных подвижников веры, местночтимых святых.
Утренники за нос цапают, изморозь опушает березы, а полноте тужить: «Придет солнышко и к нашим окошкам!»
22 марта — сороки, весеннее равноденствие, именины жаворонка.
«День с ночью мерится».
«Жаворонок весну благословил…»
Творцы народных календарей не помышляли противопоставлять себя природе. Духовная жизнь, нравственные устои, труд, человек и природа, по их убеждению, суть нерасторжимое целое. Слагались устные численники людьми, на опыте поколений постигшими, как он дается, хлеб насущный, вдобавок на Севере, где приходилось с топором врубаться в тайгу, жечь ее огнем в надежде заполучить клочок угодья — посеять жито, развести огород, накосить стог сена. Посевы губила стужа, хлеб вымокал от дождей, в засуху выгорала трава… Все-таки месяцесловы ничего другого не проповедовали, кроме любви к отчей земле, ее лесам, водам, если песня прилетной птахи, спутника пахаря, заслуживала праздника!
Наступило весеннее равноденствие — вторая встреча весны.
Молвить на прямоту, «красна весна и голодна». Горечь навевали веснянки-причеты:
Ох, весна-красна
Все повытрясла,
Из закромов
Все повыскребла,
Новым веничком
Все повымела.
О себе не печаль, перебьемся, с живностью по хлевам как быть? Крышу метали в ясли, коль дом под соломой. «Не научен человек — скотина, не накормлен скот — не животина». Заботы от сна отбивали: «Нет скотины — постель из перины, есть скотина — постель как шило».
Чего уж, «к весне и добрую скотину за хвост поднимают»!
Бывать, к именинникам обратить мольбу?
Ой вы, жаворонки,
Жавороночки!
Несите здоровье:
Первое коровье,
Второе овечье,
Третье человечье!
На житейских невзгодах не сошелся клином белый свет. Весна в году одна. И жизнь одна — пускай она будет праздником, пускай молодежь потешится, попоют девицы:
Жаворонки,
Перепелушки,
Птички-ласточки!
Прилетите к нам!
Весну ясную,
Весну красную
Принесите нам!
На жердочке,
На бороздочке,
И с сохой, и с бороной,
И с кобылой вороной,
С пряльцем, с донцем,
С кривым веретенцем!
Снег глубок, непогодь — что вы, нет помех хороводам. Избы тесны, найдется крыша за околицей.
У нас на гумнечке немножко:
Пятьдесят молодцов, сорок девок…
Балалайки, бубны, тальянки сменяют наигрыши с «Наборной» на «Сборную», со «Сборной» на «Капустку», на «Заиньку». Дробят по гладкому току гумна полусапожки — новокупки, блескучие жениховские калоши на валенках выше колен, ветер поднимает подолы в кружевах, развеваются шитые-расшитые передники.
Сковородник на печи,
Ты не много хлопочи!
Десяточка два-три
Ты блинов напеки.
Двое ходят, двое бродят,
Двое сойдутся и обоймутся,
Обоймутся и поцелуются
По старому закону:
Четыре на кону, —
Но не выщелкать.
Целоваться девять раз,
Против носу, против глаз,
Девяносто один раз.
Закон, старый закон!
Чем нам песенку начать,
Чем ее окончить? —
Разговорами начнем,
Поцелуем кончим.
Ребятишки, непременные участники встречи весны, забравшись куда ни повыше — на изгороди, крыши амбаров, погребов, — голосили в крик:
Весна-красна,
Что принесла?
Теплое солнышко,
Красное летечко…
Прислушайся, в соседней деревне сверстники надрываются:
Весна-красна!
На чем пришла?
На чем приехала?
На жердочке,
На бороночке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.
Интервал:
Закладка: