Марина Хатямова - Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века
- Название:Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-9551-0248-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Хатямова - Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века краткое содержание
В монографии исследуется феномен «избыточной» литературности как один из основных способов сохранения самоидентичности литературы. Изучение литературоцентричной поэтики прозы русских писателей первой трети XX века Е. Замятина, Б. Зайцева, М. Осоргина, Н. Берберовой открывает семиотический механизм сохранения культуры и конкретизирует понимание исторически изменчивых вариантов саморефлексии русской прозы. Формы литературной саморефлексии, обнаруженные в литературоцентричной поэтике повествования и сюжета в творчестве эстетически разных писателей (метапроза Е. Замятина, М. Осоргина и Н. Берберовой, мифологический сюжет Б. Зайцева, М. Осоргина и Е. Замятина, культуро– и литературоцентричный сюжет в творчестве всех названных авторов), порождают сходство индивидуальных поэтик и позволяют рассматривать литературность как еще один (помимо традиционных – метода, стиля, жанра) закон искусства, основанный на антиэнтропийных принципах организации художественного мира и сохраняющий в литературоцентричных формах самоценность эстетической реальности от деструктивного воздействия социального хаоса.
Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
436
Серков А. И. Комментарии // Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 328.
437
Антология даосской философии. М., 1994. С. 25–26.
438
Ср.: «Понятие „интеллигенция“ в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это „служба ума“, потом „служба совести“ и, наконец, (…) „служба воспитанности“ (…) (Служба совести. – М. X.) проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с властью и народом (…) Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX в.» (Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигениция. История и судьба. М., 2000. С. 9). Герой Осоргина испытывает чувство вины перед подчиненным Ришаром, но оказывается непреклонен в отстаивании своих этических принципов в разговоре с директором компании по поводу распространения порнографического журнала.
439
Ср.: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине (…) Интеллигенция (…) корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья.» (Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. Из глубины: Сб. статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 17).
440
В своей публицистике Осоргин много писал о прагматизме буржуазной эпохи. Например, по поводу одного из представителей вымирающего типа русских интеллигентов: «Личное дело, „торопливость в делании добра“ уже не идут в счет там, где раздается проповедь созидания общечеловеческого счастья любыми мерами, вплоть до единичного и массового убийства, где „сегодня“ приносится в жертву гуманному будущему. (…) Вымерли чудаки, люди малых дел, утрированные филантропы, их сменили вожди, люди грандиозных заданий, командиры вооруженных спасателей человечества» (Осоргин Мих. Утрированный филантроп // Последние новости. 1936. № 5754. 25 дек. – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 14).
441
Название отсылает к Помголу, активным организатором и участником которого был Осоргин, подвергшийся за это тюремному заключению, смертному приговору, замененному Нансеновским паспортом.
442
Профессор рисует Егору Егоровичу картину тоталитарного рая, явно напоминающую Единое Государство Е. И. Замятина, с которым Осоргин общался в России и в эмиграции, и написал статью «Евгений Замятин» (Осоргин М. А. Евгений Замятин // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. М.: Олимп, 2002. С. 142–148).
443
Иванов Вяч. Вс. Интеллигенция как проводник в ноосферу // Русская интеллигениция. История и судьба. М., 2000. С. 51.
444
В исследованиях Т. А. Бакуниной, жены М. А. Осоргина, «Знаменитые русские масоны» и «Русские вольные каменщики» указаны и государи, и государственные деятели, которые в романе не названы. В заключении предисловия к парижскому изданию, подписанном В. К. (Вольный Каменщик), неизвестный автор утверждает близкую Осоргину мысль о генетической связи русской интеллигентской культуры с масонством (Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. Русские вольные каменщики. М.: Интербук, 1991. С. 9).
445
Масоны. История, идеология, тайный культ. М.: Вече, 2005. С. 218–224.
446
Ср.: Московское розенкрейцеровское общество (…) – это свободолюбивое литературное объединение, и религиозное собрание (…) Профессор Шварц, Новиков или Семен Гамалея были для учеников настоящими старцами – наставниками, учителями в жизни и в искании Бога. С ними начинается традиция просветителей-подвижников, публицистов-защитников заветных ценностей, готовых пострадать за них. Философия воспринимается как жертвенное служение истине; они берут на себя миссию передачи святого учения, становятся средствами и жертвами просвещения. Развивается в новиковском кружке тот культ Братства, основанного на единстве духовных идеалов, который станет наследием последующим поколениям: экзальтация дружбы и любви среди братьев, идея совокупных усилий во имя общей цели, отрицание личной, отделенной от братства жизни будут характерными чертами и кружка Зеленой Лампы, и декабристов» (Фарджонато Р. Розенкрейцеровский кружок Новикова: предложение нового этапа этического идеала и образа жизни // Новиков и русское масонство: матлы конф. 17–20 мая 1994 г. Коломна. М., 1996. С. 41).
447
Масонство XVIII века его исследователи называли «первым кружком русской интеллигенции» (Семека А. К. Русское масонство в 18 веке // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. 1914–1915. М., 1991. С. 134). Р. М. Байбурова, например, относит московских масонов XVIII в. к русской интеллигенции, т. к. на первый план они выдвинули «проблемы нравственного самосовершенствования и совестливого, уважительного отношения человека к человеку, братской любви, подтолкнувших русское общество к восприятию этих истин» (Байбурова Р. М. Московские масоны эпохи Просвещения – русская интеллигенция XVIII в. 2000. С. 250).
448
Т. В. Марченко, например, не видит связи между интеллигентностью героя и его масонской деятельностью. Ср.: «Егор Егорович, несмотря на весь масонский антураж, которым окружает его автор, остается русским интеллигентом XIX столетия, носителем интеллигентского нравственного кодекса, с его безусловной, как бы этого ни не хотелось Осоргину, связью с христианскими заповедями. В противопоставлении мира русского интеллигента европейской цивилизации XX века, технотронной и фальшивой, коренится основная проблема книги Осоргина, наиболее остро поставленная и интересно решаемая» (Марченко Т.В. Творчество М. А. Осоргина 1922–1942: Дис… канд. филол. наук. М., 1994. С. 79–80)
449
В последнем романе Осоргина представление о едином культурно-природном круговороте, «рассеянное» в самой архитектонике ранних романов, приобретает осознанность философской концепции, воплощенной в мировоззрении героя. Ср. размышления В. В. Мароши о романах «Сивцев вражек» и «Времена»: «(Семейная хроника. – М. X.) вплетается в художественную концепцию природно-культурного круговорота, организма, где все живое – единицы «тела Вселенной». Традиционный для русской прозы начала века «пантеизм» соединяется с ностальгическим воображаемым возвращением в лоно русского мифа. Это возвращение «весны в Фиальте», циклическая образность природокультуры, компенсирующая разрыв с реальной Россией, стала одним из главных сюжетов изгнания» (Мароши В. В. Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев вражек» // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество. С. 45).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




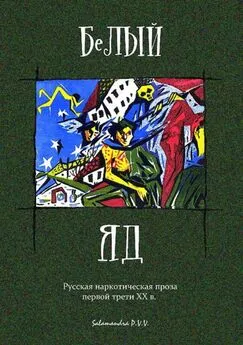
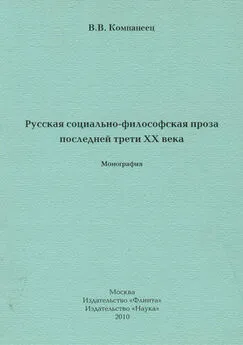
![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/1086208/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)
![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины XX века. Том 1]](/books/1086410/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)


