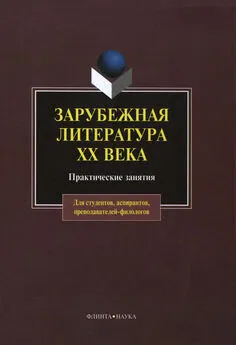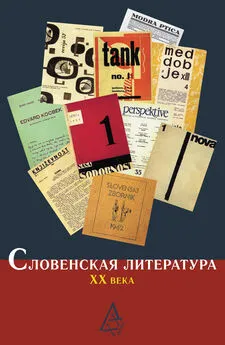Коллектив авторов - Зарубежная литература XX века: практические занятия
- Название:Зарубежная литература XX века: практические занятия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-977-3, 978-5-02-034786-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Зарубежная литература XX века: практические занятия краткое содержание
В пособии рассмотрены ключевые произведения Джеймса, Элиота, Джойса, Пруста, Рильке, Кафки, Манна, Фолкнера, Беккета, Делана и других крупнейших новаторов мировой литературы XX века. Предложены материалы к практическим занятиям, задания для письменных работ, списки литературы для дальнейшего чтения по данному разделу курса зарубежной литературы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов, учителей-словесников.
Зарубежная литература XX века: практические занятия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В следующем стихотворении, созданном несколькими годами позже, очевидно изменение поэтики Целана.
Псалом
Стихотворение «Псалом» было написано 5 января 1961 года, впервые опубликовано в 1962 году в «Альманахе (76)» издательства С. Фишера, а затем вошло в сборник «Роза никому» (1963), посвященный памяти Осипа Мандельштама. Этот сборник занимает особое место в творчестве Целана: он обозначает рубеж между ранним и поздним периодами, выражает скепсис поэта по поводу выразительных возможностей языка.
Поиск нового поэтического языка приводит к тому, что Делан стремится уйти от традиционной метафорики, вместить в одно слово многие, порой взаимоисключающие смыслы. Стихотворения богаты авторскими неологизмами, которые поражают и вызывают цепочку причудливых, далеко ведущих ассоциаций. Такая насыщенность каждого слова осложняет толкование стихотворений этого сборника и в особенности их перевод.
В этом сборнике, как ни в каком другом, Целан черпает образы из обширного арсенала еврейской культурной традиции, прежде всего иудаизма и мистики. Одна из главных тем сборника – взаимоотношения человека и Бога, или точнее, их отсутствие.
Стихотворение «Псалом» – одно из самых известных и в то же время показательных стихотворений сборника. На русском языке стихотворение существует, как минимум, в девяти переводах. (Все они были собраны в специальной рубрике «Вглубь одного стихотворения» в журнале «Иностранная литература».)
Мы приводим «Псалом» в переводе Ольги Седаковой 1999 года и в оригинале. Концентрация смыслов в одном слове и расположении слов такова, что при интерпретации нам часто придется прибегать к немецкому тексту.
Псалом
Некому замесить нас опять из земли и глины,
некому заклясть наш прах
Некому
Слава тебе, Никто
Ради тебя мы хотим
цвести
Тебе
навстречу
Ничем
были мы, останемся, будем
и впредь, расцветая:
Из Ничего —
Никому – роза.
Вот
пестик ее сердечно-святой,
тычинки небесно-пустые,
красный венец
из пурпурного слова, которое мы пропели
поверх, о, поверх
терний.
Psalm
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub
Niemand
Gelobt seist du, Niemand
Dir zulieb wollen
wir blühen
Dir
entgegen
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandsrose
Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, о über
dem Dorn.
Псалтырь, одна из книг Ветхого Завета, содержит 150 псалмов. Это – обращения к Богу, прославления его и одновременно мольбы, просьбы. В соответствии с этим тон псалмов может быть приподнятым или умоляющим. А иногда он становится требовательным, когда возносящий молитву жалуется на невнимание и призывает Бога помочь ему. Назвав свое стихотворение «Псалом», поэт отсылает нас к этой традиции, хотя и во многом нарушает ее.
Библейские псалмы, как правило, звучат от первого лица. Говорящий субъект в стихотворении Целана, как и в «Фуге смерти», – коллективное «мы». Многие исследователи полагают, что за этим «мы» скрывается еврейский народ, часть которого была уничтожена во время Второй мировой войны, то есть народ был оставлен Богом. Стихотворение не содержит никаких особых элементов, подтверждающих или опровергающих такое толкование. «Мы» можно также понять как голоса человечества, обращающегося к Богу.
Первая строка стихотворения отсылает нас к мифу о сотворении человека («И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Первая книга Моисея, Бытие; 2. 7). Вторая строка читается разными интерпретаторами и переводчиками по-разному. Причиной тому – многозначность глагола «besprechen». Это слово в своем самом распространенном понимании означает «говорить о чем-либо», «обсуждать», «критиковать». С другой стороны, оно используется для обозначения магических действий, в том числе и для заклинания с целью одушевления. В этом случае вторая строка продолжает рассказ о сотворении живого существа. Но Бог Библии вдохнул в человека жизнь, не прибегая к заклятиям. Этот глагол отсылает нас одновременно к другому важному корпусу текстов – Кабале, согласно которой из глины можно создать человекоподобное существо – Голема и затем оживить его с помощью магических заклинаний, используя тайное имя Бога.
Парадоксальным в этом процессе творения является субъект. Он обозначен местоимением «никто». В первой и третьей строке предложение начинается с этого местоимения, поэтому «Никто» написано с большой буквы, что дает нам возможность рассматривать его одновременно как имя собственное. Благодаря этой потенциальной двойственности строфа допускает различные толкования. С одной стороны, если принять «никто» как простое местоимение, то строфа означает, что процесс сотворения человека больше не происходит. С другой стороны, если принять «Никто» как имя действующего субъекта, то толкование получается иное. Субъект по имени «Никто» создает людей, и в таком случае за этим именем, вероятнее всего, скрывается Бог. В то же время за счет негативной энергии этого местоимения существование самого Бога ставится под сомнение. В переводах на русский язык второе значение передать точно невозможно из-за необходимости двойного отрицания. Фраза в оригинале может означать «Никто не лепит нас», равно как и «Никто лепит нас». Это напряжение между одновременно возможными бытием и небытием присутствует и в следующих строфах стихотворения.
Вторая строфа открывается привычной формулой прославления. Слово «Никто» написано здесь с большой буквы и занимает место, на котором в псалмах стоит обращение «Господь» или «Бог»; таким образом окончательно фиксируется его функция как имени Бога. Цветение во имя Бога в следующих строках представляется логическим продолжением прославления Создателя, но слово, завершающее вторую строфу, вновь создает напряжение. «Entgegen», которое Целан выделил особой строкой, имеет два противоположных значения, объединенных, однако, общей семой диалогичности. С одной стороны, «entgegen» означает «навстречу», с другой стороны – «вопреки». Таким образом, и здесь, как и в первой строфе, соединяются прославление и отрицание Бога.
Третья строфа вводит самоопределение говорящего «мы» – «Ничто». «Никто» и «Ничто» взаимодополняют друг друга, образуют пару, соотносимую с парами «создатель – создание», «субъект – объект». Одновременно «Никто» и «Ничто» вследствие негативной энергии обозначающих их местоимений оказываются едиными в своем не-существовании. «Ничто» перекликается также со словом «прах» из первой строфы, вновь вызывая библейские коннотации («Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратиться в прах». Книга Екклесиаста; 3. 20).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: