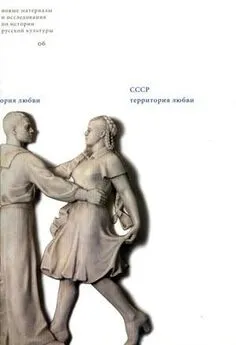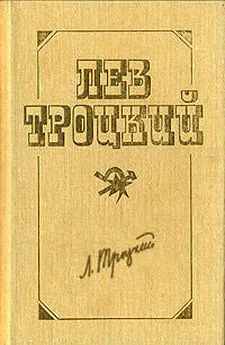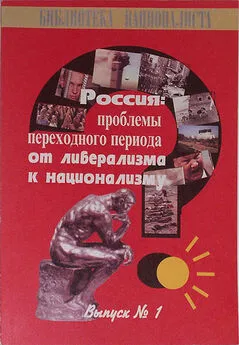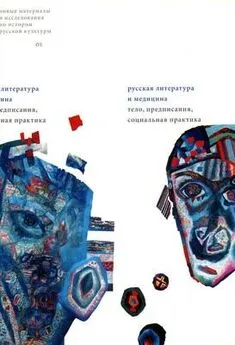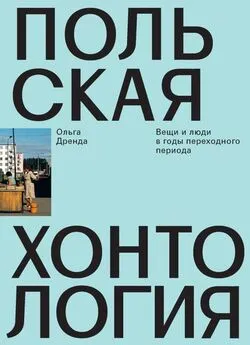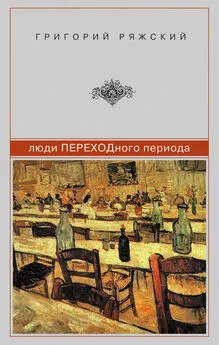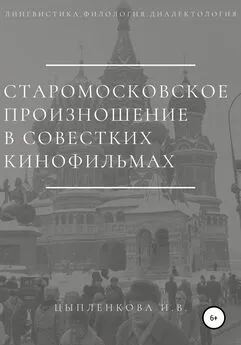Татьяна Дашкова - Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода
- Название:Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-106-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Дашкова - Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода краткое содержание
Задачей предлагаемого исследования является рассмотрение изменений в кинорепрезентации приватного при переходе от «большого стиля» к кинематографу «оттепели». Под кинорепрезентацией приватного я буду понимать набор сюжетов, связанных с частной и/или интимной жизнью (ухаживание, общение влюбленных, семейная жизнь, внебрачные связи, ситуация развода, рождение и воспитание детей и др.), представленность в кинематографе бытовых практик (работа по дому, проведение досуга, гигиенические процедуры и пр.), а также способы показа приватного, характерные именно для кинематографа как особого типа медиума (крупный план, фрагментация, субъективная «ручная» камера, специфический свет, шумы и пр.).
Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Персонажи. Сразу отмечу, что сюжеты такого рода влекут за собой подчеркнутую типажность персонажей. Модели, по которым она конструируется, отсылают к традиционным театральным амплуа и типажам немого кино (лирический герой, лирическая героиня, простой парень, простая девчонка, комическая пара, помощник, противник, советчик и др.), но в рамках «большого стиля» к ним добавляется еще и жесткая социальная и/или идеологическая привязка (рабочий, колхозник, военный, служащий, артист; рабочий человек, бюрократ, спекулянт, вредитель). Идеологичность задает однозначность идентификации персонажа: «наш» — «не наш», а следовательно, и одномерность его характеристик — как социально-политических, так и телесных. Идеология может быть зафиксирована не только в открытых, явных проявлениях. Могут быть выявлены и более тонкие механизмы идеологической работы, связанные с узнаванием и политической идентификацией. Как отмечают Л. Гудков и Б. Дубин, для функционирования тоталитарной идеологии важны не конкретные враги, но сама процедура обнаружения [20] Эта идея была сформулирована Л. Гудковым и Б. Дубиным в лекции о тоталитарной культуре, прочитанной в апреле 2003 года в Институте европейских культур (Москва).
. Таким образом, вырабатывается умение «распознать врага», отсылающее нас к лежащему за пределами кинотекста «реальному» конфликту.
Идеологическая однозначность обусловлена типом актерской игры, который включает телесный облик и манеру кинематографического поведения: тип лица, мимика, прическа, одежда, жесты, позы, походка и пр. В киноведческих работах последних лет обращается внимание на абсолютную узнаваемость в кадре лица «советского человека» [21] См., например: Булгакова О. Советские красавицы в сталинском кино // Советское богатство… С. 391–411.
, «врага» (вредителя), «вождя» (партийного лидера), портрета «рабочих масс» [22] К сожалению, эта проблематика только начинает разрабатываться. Так, опубликована, но не откомментирована подборка фотограмм в сборнике, посвященном советскому кино 30-х годов. См.: Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995 («Образы-образцы», с. 69–76; «Лицо врага», с. 91–96; «Обращение к массам», с. 29–34; «Трудящиеся массы», с. 55–58).
. Кроме того, начата работа по исследованию манер поведения, походки, жестикуляции персонажей советского кино [23] См.: Булгакова О. Фабрика жестов. М., 2005.
. Отмечается, что в кинофильмах «большого стиля» у «советских людей» прямой открытый взгляд (в камеру) и широкая улыбка; они спортивны, двигаются быстро, эмоции проявляют бурно. Так, в исследовании О. Булгаковой по антропологии и культурному значению жеста в отечественном кинематографе делается ряд важных наблюдений; среди них — замечания о генезисе жестов в советских фильмах, а также способах их кинематографического конструирования и интерпретации. Как отмечает исследовательница, внешняя типажность положительных персонажей является сплавом манеры поведения и выражения (любовных) эмоций, характерных для «опереточных» и «водевильных» крестьян, со стереотипной ораторской жестикуляцией [24] Подробнее см.: Там же. С. 203–271 (параграф «Техники дисциплинирования, 1931–1951»).
. Сложившемуся «положительному канону» в наибольшей мере соответствуют персонажи С. Столярова, Н. Крючкова, Е. Самойлова, Л. Орловой, М. Ладыниной [25] Именно эта типажность была утверждена как эталонная, что выдвинуло этих актеров в ранг звезд советского кино. Такой идеологизированный статус одновременно и давал большие привилегии, и сильно ограничивал ролевой диапазон — эти актеры могли играть только положительных персонажей, являя собой «образцы». (Исключение составляет единственная полуотрицательная роль Л. Орловой в к/ф «Ошибка инженера Кочина» — роль раскаявшейся агентки иностранной разведки. На этом фильме особенно заметна разница в манере игры: актриса, всегда играющая комедийных персонажей, создает неоднозначный трагический образ — у нее иная, чем обычно, внешность, жестикуляция, манера говорить.)
. В отличие от них «враги» чаще всего «нерусской» внешности, смотрят исподлобья, вечно настороженны, нервны, их жесты суетны или излишне церемонны.
О. Булгакова также предлагает интересные наблюдения над поведением персонажей в «любовных сценах»: в ситуации любовного объяснения или доверительной беседы герои демонстрируют преувеличенные «физиологические» жесты немого кино, на которые накладывается имитация фарсового «простонародного» поведения (почесывание, хлопанье по плечу, толкание собеседника локтем в живот, грубые хватания женщины, попытки насильственного поцелуя и защиты от него) [26] Как остроумно замечает О. Булгакова, «это не изнасилование, а флирт влюбленных». Далее она указывает, что «советские фильмы, забывая об эстетическом источнике этого телесного языка (кинофильмах 10–20-х годов, традициях театральных фарсов и пр. — Т. Д. ), перенимают огрубленные комические техники флирта и эротики как норму обычного бытового поведения», «реалистически» репрезентирующую действительность. См.: Булгакова О. Фабрика жестов…, особенно с. 256–266, параграфы «Барышня-крестьянка Любови Орловой» и «Инженю на трибуне. Оратор в спальне».
. Также характерен перенос жестов из публичной сферы в частную (рукопожатие с трясением руки, ораторские жесты с поднятой рукой или сжатым кулаком) [27] Там же. С. 256–266.
. «Свои» и «враги» также имеют свои жестовые идентификации: у «наших» — элементы простонародности, смягчаемой последующей социализацией; у «не наших» — шаржированная имитация дворянских или салонных манер. Все эти ярко выраженные и постоянно закрепляемые внешние характеристики персонажей должны позволять идентифицировать их сразу и однозначно.
Киноязык. К смысловой однозначности стремился и киноязык «большого стиля». Киноведы отмечают ряд признаков, тесно связанных с особенностями сюжета и манерой актерской игры, позволяющих безошибочно идентифицировать фильмы этого периода: упрощение монтажа, удлинение эпизодов, дублирование диалогов визуальным рядом; статичность мизансцен, статуарность фигур; лидеры, снимаемые нижним ракурсом, парады — верхним; помпезность зданий, преобладание света, солнца, воды, фонтанов и белого цвета в кадре [28] Об этом подробнее: Маматова Л. Модель киномифов 30-х годов // Кино: политика и люди (30-е годы). М., 1995. С. 77–78. Именно эти визуальные коды обычно цитируются в ретрофильмах о «сталинском времени» (см., например, «Прорву» И. Дыховичного, 1992, «Папу» В. Машкова, 2004).
.
Что же касается репрезентации приватной сферы, то сама стилистика сталинского кинематографа, нацеленного на показ «образцов», исключает фиксацию повседневного и рутинного: пространства частной жизни предельно очищены и упрощены (в комнатах только функциональная мебель и значимые для сюжета вещи), бытовые процедуры лишь обозначены и работают на характеристику персонажа (моет пол — значит, аккуратная). Любовные же отношения и объяснения в любви, как правило, вынесены в публичные пространства (театральные кулисы в «Веселых ребятах» и «Волге-Волге», аэродром в «Интригане», большая компания сослуживцев в «Новой Москве», ВДНХ в «Светлом пути» и в «Свинарке и пастухе», бал в «Небесном тихоходе», мост над Москвой-рекой во время народного гулянья по случаю Победы «В шесть часов вечера после войны» и др.). Либо сама «общественная жизнь» врывается в наметившееся интимное пространство, разрушая его приватность и инкорпорируя влюбленных обратно в коллектив (например, разгон по домам целующихся парочек в «Богатой невесте»; постоянное вмешательство товарищей в отношения сложного любовного треугольника в «Моей любви», подслушивания и подглядывания за влюбленными как обычная практика).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: