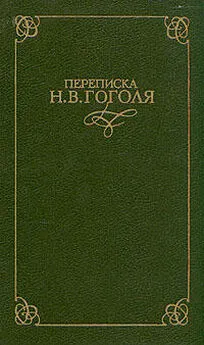Андрей Марчуков - Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время.
- Название:Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:REGNUM
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91887-017-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Марчуков - Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. краткое содержание
Эта книга — о нас с вами. О нашем культурном и историческом «я». О нашем национальном сознании. О нашем прошлом и нашем будущем. Рассмотренными на одном конкретном примере — восприятии русским коллективным сознанием Украины, а если говорить точнее, тех земель, что в настоящий момент входят в её состав.
В монографии показана история и динамика формирования этого восприятия в ключевой для данного процесса период — первые десятилетия XIX века. Рассматриваются его главные нюансы-направления.
Герои этой книги — великороссы и малороссы, поэты и путешественники, консерваторы и декабристы, Пушкин и Рылеев, Алексей Толстой и Гребёнка, Карамзин и Хомяков, Чехов и Маяковский и многие другие лица русской истории. А в центре исследования — фигура Н. В. Гоголя и его вклад в дело формирования русским обществом образа Малороссии-Украины.
Книга сопровождается богатым иллюстративным материалом. Для историков, филологов и всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.
Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Историческая колыбель и духовное сердце — таким, в общих чертах, был первый ментальный пласт восприятия этой земли русским сознанием.
Последняя треть XVIII века стала периодом, когда русское общество стало обращать на Малороссию всё больше внимания, как бы открывая её для себя. В этот период начинает формироваться второй ментальный пласт восприятия этой земли, когда в центре внимания оказывался уже её современный облик. Почему именно тогда обозначился интерес русского общества к этому региону и стало меняться его видение? Причин тому несколько.
Прежде всего, разительным образом изменилось само российское общество (речь идет, в первую очередь, о его высших кругах). Петровские преобразования начала XVIII века привели к революционным переменам не только в государственном устройстве или положении церкви — поменялась сама целеполагающая идея страны. Глубокие перемены произошли в культурном и мировоззренческом облике правящего класса России.
Но вызревать они начали ещё задолго до Петра. Корни многих социально-психологический процессов, сделавших возможной петровскую культурную «революцию сверху», берут начало в Расколе. Ведь его главным, хоть и неожиданным и даже нежеланным результатом стала эрозия убеждённости русского общества (и прежде всего его правящего слоя) в собственной исторической и духовной правоте, в способности и возможности жить по-своему и не считать, что кто-то знает истину лучше, тогда как свой путь — сплошная ошибка. Какими бы глубокими соображениями церковного и светского плана ни руководствовались устроители реформ из окружения царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, обернулись нововведения (а может, не столько они сами, сколько методы их утверждения, как бы предвосхитившие петровские) именно расколом: церкви, общества, народа и власти, русского сознания.
Позднее этот психологический комплекс — о том, что «нет пророка в своём отечестве», — и убеждённость в своей историософской «ошибочности» станут неотъемлемыми спутниками российской жизни, прочно прописавшись в сознании численно хоть и не самых больших, но влиятельных общественных групп и течений. Но Раскол лишь заложил к этому некоторые предпосылки. Вестернизация же начала XVIII века сделала эту психологию одним из определяющих векторов российского исторического процесса. Если в середине XVII века носителями «истины» и учителями выступали православные греки, то в XVIII — протестантско-католическая и быстро секуляризирующаяся Западная Европа.
Укоренившиеся среди российского правящего слоя западноевропейские социально-политические доктрины и культурные нормы привели к тому, что его взгляд на мир и Россию стал иным. Получившее образование и воспитание по лекалам европейской мысли эпохи Просвещения, российское общество в массе своей начало оценивать себя с точки зрения «Европы», повторяя при этом и все европейские мифы и стереотипы относительно России и её «допетровской» истории, например, о её «дикости», «невежестве», оторванности от цивилизации и культуры [48] Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественной мысли XVIII — начала XIX века. СПб., 2004. С. 5, 10.
. Западная Европа становилась эталоном, от которого вёлся отсчёт «культурности» (сословия, народа или территории), а Россия оказывалась «молодой» страной, лишь недавно вступившей в «цивилизованный» свет.
В географическом измерении это выражалось в том, что в российском сознании Россия стала восприниматься как «Север». Скажем, так её называла русская поэзия XVIII века. Показательно и соотношение содержащихся в ней упоминаний географических объектов: чаще всего встречаются Нева, Санкт-Петербург, Балтика, Двина либо античные топонимы. Стоит также вспомнить названия целого ряда российских изданий начала XIX века, таких как «Северная пчела», «Северные цветы», «Северный вестник», «Северная почта», «Полярная звезда» и т. п. И дело было не только в перенесении столицы, а с ней и центра культурной жизни из Москвы в Петербург, но и в том, что на Россию взирали как бы с позиций наблюдателя, находящегося в Южной Европе, точнее, в некоей пространственно-временной точке античности.
Культурный разрыв с традицией сделал неизбежным поиск российским европеизированным сознанием своего «я», своих историософских корней. И Киевская, и Московская Русь началом своей истории видели историю библейскую (ветхо- и особенно новозаветную), а корни своей идентичности полагали в христианстве. Причём идентичности не только историософской, но и национальной: русский народ есть народ христианский, сложившийся из племён — «языков» как таковой благодаря приобщению ко Христу и христианской вере. А Россия к этому духовному корню, как уже было сказано выше, добавляла ещё и политическую историю — древнерусский период. Теперь же, в духе европейской традиции того времени, таким корнем стала видеться языческая античность [49] Лавренова О. Я. Географическое пространство в русской поэзии XVII — начала XX веков. М., 1998. С. 26–27, 74.
. «Мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами», — описывал культурный контекст эпохи и вкусы российского образованного общества конца XVIII — начала XIX века декабрист И. Д. Якушкин [50] Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма Ивана Дмитриевича Якуш- кина. СПб., 2007. С. 20.
. Отсюда и взгляд с южноевропейских позиций.
Но по мере вестернизации России и вхождения её в европейский мир, прежде всего в мир европейских идей и идеологий, всё зримей стала проявляться и другая тенденция: стремление если и не вернуться к «прежней» России, то хотя бы преодолеть резкий культурный и историософский разрыв с прошлым [51] Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественной мысли XVIII — начала XIX века. С. 11.
. Началось осмысление истории и пространства России — уже с новых идейных позиций. И взгляд на Малую Русь теперь также во многом вёлся с иной точки зрения, чем это могло быть до петровской «революции сверху».
Да и сам объект восприятия за это время претерпел радикальные социально-политические перемены. На месте «Руси», пусть даже подвластной иноземному монарху и живущей под национальным и религиозным гнётом, оказалось совершенно новое образование — возникшая в результате восстания автономная Гетманщина с непривычным социальным обликом, за которым отчётливо виделся разрыв с прежней политической и культурной традицией. Кстати, ещё и поэтому русское правительство поначалу настороженно отнеслось к казакам Хмельницкого и медлило с их принятием под высокую руку: всё-таки это был мятеж (а потом и вообще антифеодальное восстание) против законного короля, установленных порядков и «легитимного» правящего класса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: