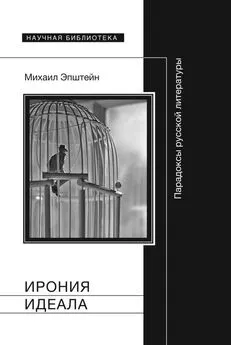Михаил Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы
- Название:Ирония идеала. Парадоксы русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0379-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы краткое содержание
Русская литература склонна противоречить сама себе. Книга известного литературоведа и культуролога Михаила Эпштейна рассматривает парадоксы русской литературы: святость маленького человека и демонизм державной власти, смыслонаполненность молчания и немоту слова, Эдипов комплекс советской цивилизации и странный симбиоз образов воина и сновидца. В книге прослеживаются «проклятые вопросы» русской литературы, впадающей в крайности юродства и бесовства и вместе с тем мучительно ищущей Целого. Исследуется особая диалектика самоотрицания и саморазрушения, свойственная и отдельным авторам, и литературным эпохам и направлениям. Устремление к идеалу и гармонии обнаруживает свою трагическую или ироническую изнанку, величественное и титаническое – демонические черты, а низкое и малое – способность к духовному подвижничеству. Автор рассматривает русскую литературу от А. Пушкина и Н. Гоголя через А. Платонова и В. Набокова до Д. Пригова и В. Сорокина – как единый текст, где во все новых образах варьируются устойчивые мотивы. Их диапазон охватывает основные культурные универсалии: бытие и ничто, величие и смирение, речь и безмолвие, разум и безумие. Динамика литературы раскрывается в ее сверхнапряженной парадоксальности, в прямом сопряжении смысловых полюсов.
Ирония идеала. Парадоксы русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мицкевич, напротив, увидел Петербург только как закономерный результат тирании, нагромождение камней, враждебных людям, – не почувствовал в нем воплощенной гармонии и торжества человеческой мысли; и потому он всецело осудил и проклял его, как создание Сатаны. Оптимизм Гете и пессимизм Мицкевича – оба по-своему оправданны 16.
Что же касается Пушкина, то у него «фаустовское» вступление к поэме соединяется с «мефистофелевским» завершением. Пушкин не разделяет ни оптимизма немецкого поэта, ни пессимизма польского. Судьба своей нации видится ему как историческое превращение фаустовского в мефистофелевское , как торжество величественного государственного строя, объединительного порядка, чем можно гордиться (этого, увы, не дано Мицкевичу), и крушение личностного начала, прав на частную жизнь, чему нельзя не ужасаться (от этого, к счастью, избавлен Гете). Фауст и Мефистофель друг без друга не делают истории. Поэма Пушкина воплощает оба настроения, выраженные порознь Гете и Мицкевичем. Напомним, что все три произведения были созданы почти одновременно, в 1831, 1832 и 1833 годах, что придает особенно конкретный исторический смысл их сопоставлению.
Двойственность пушкинской поэмы имеет строгое композиционное выражение. В поэме звучат два голоса: во Вступлении – автора («Люблю тебя, Петра творенье…»); в первой и особенно второй части – персонажа («Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..»). Но нигде нет их диалогического взаимодействия, так же как и прямого противопоставления. Ни хвала автора Петру, ни хула героя на Петра – это еще не вся правда, ибо автору, как созидателю, и естественно быть солидарным с царем-созидателем, а герою, как лицу вымышленному и подчиненному, надлежит роптать на создателя и господина. Поэтому закономерно, что голос Пушкина – творца поэмы – славит Петра, творца Петербурга, а голос Евгения, персонажа, «твари», – проклинает сверхчеловеческую мощь «чудотворного» строителя. Две правды столь же разделены и сомкнуты поэмой, как две стихии – берегом, который им равно необходим.
МЕДНЫЙ ВСАДНИК И ЗОЛОТАЯ РЫБКА: ПОЭМА-СКАЗКА ПУШКИНА
У культуры есть свойство, которое можно назвать смысловой обратимостью, или законом обратного смыслового действия. Это означает, что каждое последующее произведение отзывается в предыдущих и меняет их смысл.
Так, по наблюдению Борхеса, Кафка сближает писателей прошлого, ничего не знавших друг о друге. Например, что общего между древнегреческим философом Зеноном, китайским автором IХ века Хань Юем, датским мыслителем Кьеркегором и французским прозаиком Леоном Блуа? Все они были кафкианцами задолго до Кафки, как видно, например, из древнегреческой притчи об Ахилле, который никогда не догонит черепаху, или из древнекитайской притчи об единороге, встреча с которым сулит удачу, но которого невозможно опознать. Они непохожи друг на друга, зато «в каждом из них есть что-то от Кафки, в одних больше, в других меньше, но не будь Кафки, мы бы не заметили сходства, а лучше сказать – его бы не было. <���…> Суть в том, что каждый писатель сам создает своих предшественников» 17. Если бы не Кафка, все эти авторы и произведения так и стояли бы особняком, теперь же они становятся звеньями единой традиции.
Как ни парадоксально, разные произведения одного автора тоже могут обнаруживать глубинное сходство благодаря текстам другого автора, созданным позднее. Казалось бы, каждая строчка Пушкина, даже черновая, исследована по всем возможным линиям влияния и заимствования, а уж тем более такие классические произведения, как «Медный всадник» и «Сказка о рыбаке и рыбке», написанные в одно время, болдинской осенью 1833 года. Но, насколько мне известно, по замыслу, композиции, системе образов эти произведения никогда не сопоставлялись. И действительно, что общего между детской нравоучительной сказкой и шедевром историософского поэтического мышления?
Неожиданным посредником в сопоставлении двух пушкинских произведений стал для меня Достоевский. У него по крайней мере трижды: в «Слабом сердце», в «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе» и в «Подростке» (ч. 1, гл. 8, 1) – повторяется одна фантастическая сцена:
«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подымется вместе с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» 18.
Эта фантасмагория на тему Петербурга перекликается, естественно, с «Медным всадником» Пушкина, прообразом всей петербургской темы в русской литературе. Город на время как бы исчезает, уходит под воду… Но не хватает какого-то последнего штриха, чтобы город исчез полностью и на его место вернулось то же запустение и одичание, какое ему предшествовало. Чтобы обнажилась мнимость, «умышленность» всего, что было посредине. Между тем этот мотив исчезновения города как грезы и призрака у Достоевского тоже соотнесен с чем-то пушкинским…
Тут и вспомнилась мне «Сказка о рыбаке и рыбке». На месте ветхой землянки возникают высокий терем, затем царский дворец, чтобы в конце все это исчезло и на пороге той же землянки осталась старуха со своим разбитым корытом. И далее, мотив за мотивом, раскрывается такая глубокая взаимосвязь между поэмой и сказкой, как будто это два варианта одного сюжета.
И в поэме, и в сказке действие разворачивается на берегу моря, чем задается сходная расстановка противоборствующих сил: властная воля человека – и стихийная вольность природы. В начале обоих произведений изображается скудость и убожество повседневного существования, куда вскоре вторгнутся горделивые помыслы героев:
«Сказка о рыбаке и рыбке» (в дальнейшем СР)
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
«Медный всадник» (в дальнейшем МВ)
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод…
Разумеется, поэма гораздо богаче по своему образному строю, чем сказка, но совпадают ключевые мотивы исходных ситуаций, обозначенные редкими и потому стилистически выделенными словами: «ветхий» и «невод». Таков природный, неизменный антураж глухого, забытого, первозданного бытия в экспозиции обоих произведений.
Противоположный полюс в системе образов поэмы: «юный град, Полночных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво» (МВ). Точно так же в сказке на берегу моря, на месте прежней ветхой землянки, возносится одно жилище краше другого: сначала «изба со светелкой», затем «высокий терем» и наконец «царские палаты» (СР).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: