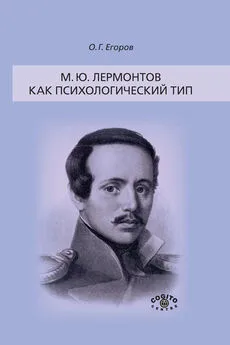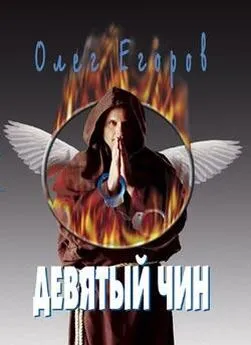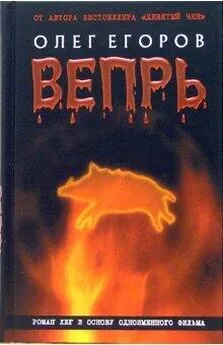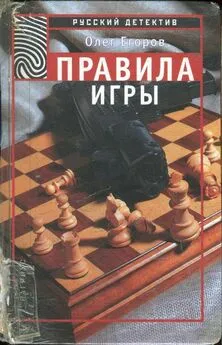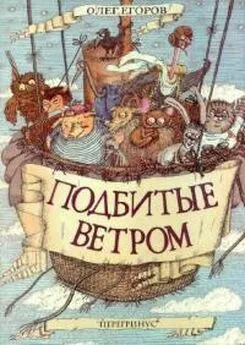Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип
- Название:М. Ю. Лермонтов как психологический тип
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-451-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип краткое содержание
В монографии впервые в отечественном лермонтоведении рассматривается личность поэта с позиций психоанализа. Раскрываются истоки его базального психологического конфликта, влияние наследственности на психологический тип Лермонтова. Показаны психологические закономерности его гибели. Дается культурологическая и психоаналитическая интерпретация таких табуированных произведений, как «юнкерские поэмы». Для литературоведов, психологов, культурологов, преподавателей.
М. Ю. Лермонтов как психологический тип - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С юношеским возрастом негативные черты характера Лермонтова не потускнели, а несколько изменили свою направленность. Они стали находить выражения в стычках с людьми куда более широкого социального круга, чем архаичный мир дворянской усадьбы. Что касается «наставлений и советов» доброжелательно настроенных знакомых и друзей юного поэта, то в них, по-видимому, не было недостатка. Его необузданное своеволие и властные порывы беспокоили их и побуждали в деликатной форме предупреждать Лермонтова о возможных последствиях выходок его бескомпромиссной натуры. «‹…› Я знаю, что вы способны резаться с первым встречным и из-за первой глупости, – писала ему А. М. Верещагина в письме от 13 октября 1832 года. – Вы никогда не будете счастливы с таким скверным характером». [194]
Лермонтов и сам сознавал наличие в своем характере неприемлемых черт и наклонностей. Они нашли своеобразную психологическую проекцию в ряде его произведений разных жанров и в разные периоды творчества. Свои детские «шалости» он красноречиво описал в «Вадиме» и в отрывке «Я хочу вам рассказать…». Герой первого – «резвый, шаловливый мальчик, любимец-баловень родителей, гроза слуг и особенно служанок» [195]. Герой второго «был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея ‹…› природная всем склонность к разрушению развилась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки». [196]Это явный признак оборонительной агрессии, то есть реакции человека на попытку лишить его иллюзии.
Перечисленные случаи нельзя полностью свести к издержкам воспитания и окружающей среды, как и нельзя ограничить деструктивными поступками в детстве и юности весь набор эксцентричных притязаний формирующейся личности. Их шкала качественно выше. «Лермонтов родился и вырос в среде, в которой житейские условия воспитали неумеренную жажду счастья, – справедливо отмечал В. О. Ключевский. – Лучи образования ‹…› сделали его самоувереннее и притязательнее и развили в ней ‹личности Лермонтова› гастрономию личного счастья ‹…› его стали искать не в одних материальных благах, не в одной бесцельной власти над ближним: наука и искусство, мировой порядок и Провидение обязаны были служить ему ‹…›» [197]
Но при всех качественных отличиях реактивного поведения Лермонтова в период созревания его личности мы должны отметить доминирующий вектор движения его психики. Он определяется базальной тревожностью . Согласно исследованиям К. Хорни, это «чувство является следствием незащищенности и порождает диапазон неблагоприятных факторов: явное или скрытое доминирование ‹…›» [198]К числу травмирующих психику ребенка факторов относится и острый семейный конфликт. «Если в семье есть расходящиеся во взглядах стороны, он примыкает к наиболее сильному лицу или группе. Подчиняясь им, он обретает чувство принадлежности и поддержки, которое помогает ему ощущать себя менее слабым и менее изолированным». [199]
Не менее важным для нас является и тот факт, что Лермонтов, помня и понимая случаи и природу своих детско-юношеских конфликтов, видел их истоки не вовне, а внутри своей души. От этого у него, вероятно, и развилась ранняя меланхолия, замеченная многими современниками:
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем. [200]
И здесь снова встает проблема родительского наследства, но уже не в биологическом, а в социальном и психологическом плане. «Мы не сможем в полной мере понять ни психологию ребенка, ни взрослого, если будем рассматривать ее как исключительно как субъективное дело индивида, его соотнесенность его с другими едва ли не важнее, – писал в этой связи К. Г. Юнг. – Во всяком случае, учитывая ее, мы подступаем к самой доступной и практически важной части духовной жизни ребенка. Душевный мир ребенка столь тесно сопряжен и сращен с психологической установкой родителей, что неудивительно, если в большей части нервная патология детского возраста восходит к нарушениям в душевной атмосфере родителей». [201]
Травмирующий опыт семейной драмы и удаление отца неестественным способом («Ему ли я не наговаривала на отца», – говорит бабушка Юрия Волина, героя юношеской драмы Лермонтова «Люди и страсти» [202]) оказали долговременное негативное воздействие на душевную жизнь Лермонтова. Мы уже упоминали отмеченную современниками реакцию Лермонтова-подростка на «наставления и советы» старших. Данный факт нельзя игнорировать как тривиальные и ни к чему не обязывающие наставления в духе Нила Федосеевича Мамаева или Крутицкого из комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Безотцовство при наличии живого отца создало конфликт того же порядка, что и при отце в семейной группе, но только с отрицательным знаком. Недаром в отрывке «Я хочу вам рассказать…» Лермонтов как бы мимоходом бросает: «Отец им вовсе не занимался ‹…›» [203]Этот признак заброшенности и безучастности отца в воспитании сына Лермонтов в полной мере испытал на себе. С раннего детства у него отсутствовал комплекс родителей как опоры на авторитет. «Человеку нужна не только „система координат“ для ориентации в жизни; для его эмоционального равновесия (комфорта) жизненно важную роль играет и выбор объектов почитания, – объяснял подобные случаи поведения Э. Фромм. – ‹…› это могут быть ценности, идеалы, предки, отец, мать ‹…›» [204]
Деструктивность поведения Лермонтова объясняется неконтролируемыми и не обузданным со стороны отца стремлением властвовать. И в отрочестве Лермонтов избежал «запретов» отца и сбросил (точнее – не носил) оковы всякого авторитета. «Взрослое состояние достигается, когда сын воспроизводит собственное детство, подчиняя себя отцовскому авторитету – либо в психологической форме, либо фактически, в спроецированной форме ‹…›» [205]Домашняя вольница обернулась уже в ближайшей социальной инстанции жизнеопасным и травмирующим конфликтом («вы способны резаться с первым»).
Установление запретов является важным шагом в развитии личности. Они помогают молодому человеку, вступающему «в жизнь», быстрее адаптироваться к условиям и требованиям социума. Наличие запретов служит гарантией от конфликтов между влечениями и требованием новых социальных норм. Но запреты может выработать только полноценная семья. «Бабушкино воспитание» нарушило естественный ход психологической идентификации с отцом и размыло представление о реалистических запретах. Этот изъян воспитания повлиял и на структуру базального конфликта и весь образ поведения Лермонтова при его вступлении в «большой свет». Ведь «первоначально ребенок ‹…› желает делать то, что делают родители ‹…› Если дети хотят идентифицироваться с родителями, они также хотят идентифицироваться с их стандартами и идеалами. Запреты принимаются как часть, соответствующая стандартам и идеалам. Стремление чувствовать свое сходство с родителями облегчает усвоение запретов. Реальная идентификация с запретами становится замещением намеренной идентификации с родительской деятельностью». [206]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: