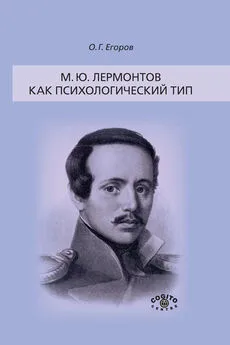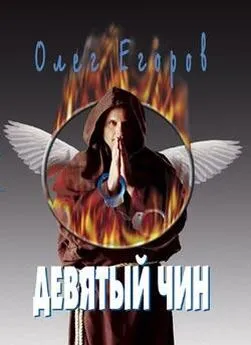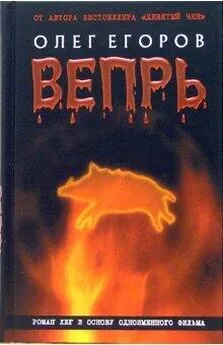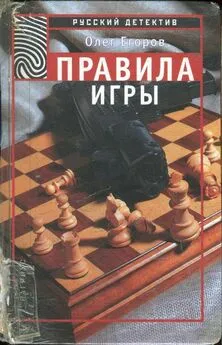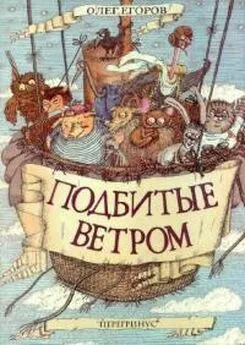Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип
- Название:М. Ю. Лермонтов как психологический тип
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-451-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Егоров - М. Ю. Лермонтов как психологический тип краткое содержание
В монографии впервые в отечественном лермонтоведении рассматривается личность поэта с позиций психоанализа. Раскрываются истоки его базального психологического конфликта, влияние наследственности на психологический тип Лермонтова. Показаны психологические закономерности его гибели. Дается культурологическая и психоаналитическая интерпретация таких табуированных произведений, как «юнкерские поэмы». Для литературоведов, психологов, культурологов, преподавателей.
М. Ю. Лермонтов как психологический тип - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда мы ‹…› снимаем маску, ‹то› обнаруживаем следующее: то, что казалось индивидуальным, в основе своей коллективно ‹…› В сущности персона ‹…› – компромисс между индивидуумом и социальностью по поводу того, „кем кто-то является“. Этот „кто-то“ принимает имя, получает титул (у Лермонтова их было два – Маёшка и Слёток. – О. Е.), представляет должность и является тем или этим ‹…› В отношении индивидуальности того, о ком идет речь, персона выступает в качестве вторичной действительности (курсив мой. – О. Е.), чисто компромиссного образования, в котором другие иногда принимают большее участие, чем он сам». [261]
Лермонтов обладал в высшей степени артистическими способностями демонстрировать игру под маской, порой не сознавая, где игра, а где жизнь. Этому способствовала среда, в которой он вращался, и та роль, которая среда навязывала ему играть. Подобные случаи встречались в его светской жизни нередко («Из-под таинственной, холодной полумаски // Звучал мне голос твой ‹…›»). Но под конец жизни «образы бездушнее людей, // Приличьем стянутые маски» стали угнетать его. И, находясь под своей светской маской, он порой забывался и улетал в мечтах туда, где его индивидуальность была свободна от коллективно налета персоны. Это противоборство личностного и коллективного в Лермонтове бессознательно, но тонко подметил молодой И. С. Тургенев, встретивший его однажды на предновогоднем маскараде (!): «На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он е снял ни сабли, ни перчаток ‹…› какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица ‹…›» [262]
Все те контрастные психологические феномены и процессы, которые мы пытаемся здесь объяснить в рамках доминирующей психологической установки, нашли отражение и в художественном мире Лермонтова, который, как известно, тоже является психическим переживанием. Из-за большого объема проблемы мы остановимся лишь на нескольких образах-мотивах его творчества, преимущественно связанных с главной темой настоящей главы.
Руководящая личностная идея в виде стремления к лидерству была центральной частью жизненно плана Лермонтова. Она носила вполне осознанный характер, поскольку неоднократно была выражена в различных письменных источниках. Данной психологической установки Лермонтов стремился придерживаться все свою взрослую сознательную жизнь. Однако испытывать бремя сознания человеку не под силу, и его бессознательное выступает в таком случае в качестве компенсирующего фактора. « В душе есть цель, находящаяся по ту сторону сознательных целей , – писал К. Г. Юнг в этой связи, – при этом они могут даже враждебно выступать навстречу последним. Враждебное или бесцеремонное поведение бессознательного по отношению к сознанию мы обнаруживаем лишь там, где сознанию свойственна ложная и самонадеянная установка». [263]Действие этой психологической закономерности в полной мере испытал на себе Лермонтов.
Уже в ранней его лирике начинают появляться мотивы, трудно объяснимые с точки зрения оптимистической устремленности его сознания и амбициозных планов завоевания «большого света» силами творческого дарования. Это мотивы смерти, могилы, костей, сна как небытия сознания и т. п. Первыми симптомами этого процесса являются визионерские переживания в группе стихотворений 1830–1831 годов, объединенных темой сна, смерти, кладбища, полного исчезновения плоти и души. О них не совсем точно Лермонтов выразился в стихотворении «1830 год. Июля 15-го»: «Какие ужасы пленяли юный дух ‹…›» [264]Это – о жизни в семейном кругу. Ужасы скорее удручали, нежели пленяли, как можно судить по содержанию и поэтике этих стихов.
В центре данного поэтического мотива стоит группа стихотворений под общим заглавием «Ночь». Нагнетание жути в первых двух («Ночь I» и «Ночь II») производит двойственное впечатление. Первое – это детализированная разработка мотива смерти шестнадцатилетним юношей, исполненным жизнелюбивых устремлений и стоящим на пороге взрослой жизни. Второе – выходящая за рамки романтических канонов поэтика и стилистика. Последнее вводит читателя в состояние эмоционального шока.
Видение смерти в лермонтовском цикле (будем его так условно называть) связано с архетипическими мотивами бессознательного и в своей основе носит коллективный характер: «Я зрел во сне, что будто умер я», «я мчался без дорог», «и мнилося ‹…› тусклое, бездушное пространство», «мрачные своды», «целые миры», «земной шар». Все это – сновидческие детали, обладающие универсальным смыслом с точки зрения глубинной психологии.
Дело в том, что некоторые содержания психики, которые не вписываются в целое, вытесняются и не признаются. В таком случае они всплывают в фантазии и сновидениях, и тогда, как пишет Юнг, «появляются „космичность“, а именно – соотнесенность образов сновидений и фантазий с космическими качествами, каковы временнáя и пространственная бесконечность, ненормальные скорости и движения „астрологические“ взаимосвязи, лунарные и солярные аналогии, существенные изменения телесных пропорций ‹…› например, человеку снится, будто он летит через Вселенную ‹…› или просто умер ‹…›» [265]
Создается впечатление, что Лермонтов вступил в крайний возраст сразу из золотого века детства. С ним словно произошла психологическая трансформация:
Боюсь не смерти я, О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно. [266]
Откуда это? С позиций сознания душевный опыт юного Лермонтова пришел во взаимодействие с теми его социальными практиками, которые требовали от него оценить реалистичность открывающейся перед ним жизненной перспективы, а «опыт является исчерпывающим только в то мгновение, когда человек может рассматривать свою жизнь с точки зрения смерти». [267]Жизнь отчетливо выступает тогда, когда видишь ее смертную завершенность.
Другой стороной «программных» произведений данного цикла является нагнетание супранатуралистических деталей, характеризующих смерть и разрушение: «узкий гроб, где гнил мой труп», «мясо кусками синее висело», «смрадная сырая кожа», «кости», «скелет». А если посмотреть на родственные мотивы в других произведениях этого периода, то
Висит скелет полуистлевший,
Из глаз посыпался песок,
И коршун, тут же отлетевший,
Тащил руки его кусок. [268];
или
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет —
Он обладал моей душой. [269];
Сырой землей покрыта грудь,
Но ей не тяжело,
И червь, движенья не боясь,
Ползет через чело. [270]
Мотив находит продолжение и в прозе тех лет, но уже в форме сравнений и метафор: «он был весь погребен ‹…› в могиле ‹…› где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный»; «и слава его была ветер, гуляющий в пустом черепе»; «чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали» [271]. Приведенные цитаты как будто свидетельствуют об остатках языческих суеверий в душе поэта и демонстрируют его ненависть к природе и человеческому телу. То, что это не дань литературной традиции, совершенно очевидно. Данный факт отметил еще Б. Садовской в статье «Трагедия Лермонтова»: «Это не романтический литературный антураж: Лермонтов искренно любит страшные тайны могилы, чувствует подлинную поэзию склепа». [272]Только чего здесь больше – поэзии или психологии: вот вопрос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: