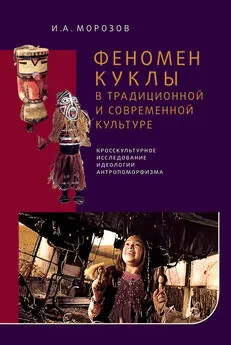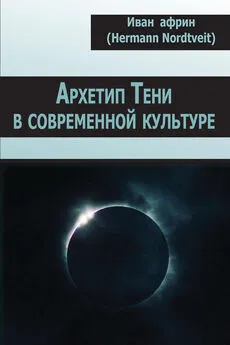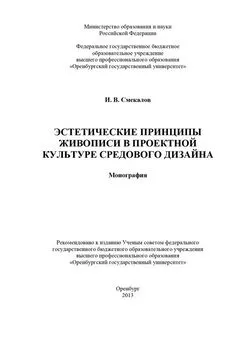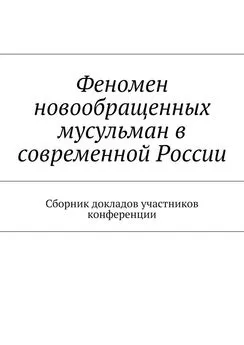Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма
- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-114-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание
Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.
Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.
Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.
Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.
Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интересен мотив ритуальной борьбы за фигурки на свадебном каравае или пироге между гостями со стороны жениха и со стороны невесты и последующее одаривание ими детей, в дальнейшем использовавших их во время кукольных игр в свадьбу. «Ну, каравай – эт пекли! Пичушкых втыкали. Ну, вот тогда ведь в магазинах бумага разная продавалась – вот её пакупали, резали (вот как сейчас снежинок вырезаешь) и эти лучинки обвёртывали. Потом вот пекли такой пирог в форме [=„каравай“]. И вот этот пирог весь утыкивали этими вот лучиночками. А тут ещё шили куклы – вроде „жениха“ и „невесту“. Из тряпков сошьёть и карандашом глаза ей нарисуеть, нос, рот. И штаны ему – жениха-то сделають в штанах! Эт в центре [„каравая“ ставили]… [И вот] их схватывали эти вот самые пичужки с каравая родня и жениха, и невесты: „жениха“ старались схватить невестина родня, а „барыню“-ту – женихова родня. Это почти что как расхадиться. И себе куда-нибудь там в волосы воткнуть и пляшуть… Ну, вот это схватить, у кого [дети есть], придёть домой, девчонкам играть отдасть…» [ЛА МИА, с. Черная Слобода Шацкого р-на Рязанской обл.].
«Пичужки» и куколки в рязанских версиях обряда функционально соответствуют свадебному деревцу, которое нередко устанавливалось в центре каравая и вокруг которого также разыгрывались различные состязания с участием родственников молодых. Так, в Поволжье крёстные жениха и невесты состязались, кто перетащит на свою сторону свадебное деревце-«березку», воткнутое в каравай-«курник» [ЛА МИА, с. Верхняя Маза Радищевского р-на Ульяновской обл.]. У терского казачества в аналогичной функции выступали веточки калины [ЛА МИА, ст. Незлобная Новопавловского р-на Ставропольского края].
В селах Шацкого р-на Рязанской обл. куклы из теста, тряпок, глины или даже из дерева величиной до полуметра могли выставляться на свадебный стол независимо от каравая. Они по многим признакам напоминали куклу, которую в других селах преподносили молодым во время «сыр-каравая» (обряда одаривания молодых). Причем если тряпичной кукле шили специальный наряд, то у глиняных, деревянных куколок и фигурок из теста обычно выделялось лишь две детали: шляпа и кнут или метла в руках. «Это уж кто этим занимается. Бываеть, примерно, такая весёлая-развеселая [женщина]. Вот она и состряпаеть человечка. Некоторые из глины делають, а некоторые из теста. И вот он стоить, метла у няго, значить: „Выметайся все!“» [ЛА СИС, с. Польное Ялтуново].
В том же селе полуметровую куклу-«русалку», изображавшую мужскую фигурку с кнутом (по-видимому, заменившим фаллос), выпекали в четверг перед свадьбой, т. е. в тот же день, когда выпекался свадебный каравай. «Такую „русалку“ пекли из пресного теста, с полметра. Явью смажуть, щёб он был красивый, желтый. Глазки – воткнуть крыжовничек, голова, и шляпу сделають на голову – всё из теста. И кнут – яво с кнутом и пякуть. Стоячим яво [делали], эт вещь стоить. Стоить кукла, и вот с кнутом. ‹…› Эт пякуть в четверг на свадьбенной неделе. В четверг испякуть, закроють яво, в утирочку чистую завярнуть и на печку с краюшку посадють, и он и сидить, покаместь свадьба пройдеть… [И пока эту куклу] не подадуть, всю ночь сидять. Кто там стряпаеть, тот и несёть. И вот ставють яво на стол. А когда выходють из стола, все ломають от няво…» [ЛА СИС, с. Польное Ялтуново]. Мотив разламывания и поедания гостями «русалки» сопровождалась ритуальной борьбой «за лучший кусок».
В том де селе полуметровую куклу показывали из-за перегородки, отгораживающей кухню от комнаты, где происходило застолье, когда хотели намекнуть, что гостям пора расходиться. «Ну, из тряпках куклу вот такую сделають (большая, порядочная кукла) – и с запоном, и всё. Эт в первый день – наденуть вон её, и вон оттоль покажуть. А она с жичиной [=с прутиком] стоить – вроде разгоняеть. Покажуть, а они, гости-то: „Наверно надоть нам расходится!“ ‹…› Вот так – это чтобы они скорей ушли…» [ЛА МИА, с. Польное Ялтуново].
Употребление куколок разного типа в обрядах выпроваживания гостей, завершающих традиционную свадьбу, характерно и для других народов. Так, в Краковском воеводстве в конце свадебного застолья по столу двигали искусно изготовленного «козлика» ( «koziołek» ) и пели песню, в которой просили пожалеть «козлика» и дать ему денег, а за это музыка будет играть до утра [Kolberg 1963, t. 6, s. 45].
С точки зрения предметного кода свадебного обряда кукла является универсальной вещью-«персонификатором», наглядно демонстрирующей взаимодействия главных действующих лиц свадьбы и связанные с ними обрядовые смыслы. С помощью этого предмета «выводятся наружу» культурные смыслы, определяющие внутреннее и внешнее перевоплощение основных персонажей свадьбы. Но в первую очередь это касается невесты как ключевого женского персонажа данного обряда, которому при помощи куклы транслируется важная информация по материнской (женской) линии: сохранение и поддержание плодородия, знаний и умений, связанных с «женской магией».
В этом смысле показательны зафиксированные в сказочном фольклоре куклы-помощницы, передававшиеся девушке-невесте матерью и помогавшие ей преодолеть опасности лиминарного периода. В поздних версиях обряда сохраняется обычай передачи свадебных куколок девочкам-родственницам невесты, что, по-видимому, также должно было магически способствовать успешному замужеству и обеспечить высокую степень фертильности всех женщин «рода» (отсюда азартное соревнование за обладание свадебными куколками между представителями молодоженов). Высокая ценность этого предмета продолжала осознаваться носительницами традиции вплоть до последнего времени, а пародийно-комические его употребления в рамках свадебного ряжения, символизировавшего присутствие на свадьбе «всего рода», в том числе духов-покровителей и «предков», лишь подчеркивали его высокую значимость и важный статус.
Обращают на себя внимание случаи дублирования или взаимозамены антропо– и зооморфных кукол, а также ветвей деревьев и иных фитоморфных символов. Подобный изоморфизм уже отмечался нами в отношении обрядовых символических презентаций различных божеств и героев (см. глава «Герой и бог»). В стадиально поздних версиях свадьбы антропоморфный код не только символически отражает взаимоотношения между участниками обряда, но и вбирает в себя более древние значения плодородия и жизненной силы, ранее передававшиеся при помощи фито– и зооморфной символики.
Похороны и поминки
Ритуалы прощания с мертвецом по форме часто аналогичны календарным обрядам выпроваживания. Поэтому типы кукол (чучел), замещающих мертвеца в этих группах обрядов, очень близки, при том что поминальные обряды часто имеют календарную приуроченность. Видимо, этим объясняется слабая представленность кукол в традиционной похоронно-поминальной обрядности у русских: основные презентации «кукольных похорон» характерны для календарных обрядов, приуроченных к святкам, масленице и праздникам весенне-летнего цикла (см. ниже), а также для детских развлечений и игр (см. «Кукольные игры в свадьбу и похороны»). На похоронах представлены иные «знаки мертвеца», обычно не антропоморфные – например, полотенце в «святом углу» или на доме покойного [cм.: Морозов 2001б, с. 20–45], хотя аналогом куклы в современной похоронно-поминальной обрядности можно считать фотографии усопшего (см. также «Проводы в дальний путь»). Нередко куклу кладут в гроб умершему ребенку в числе прочих любимых игрушек [Соколова 2009, с. 452, манси ].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: