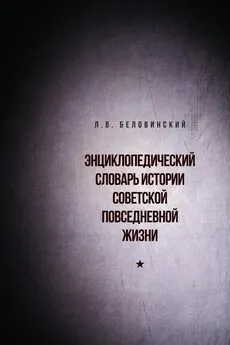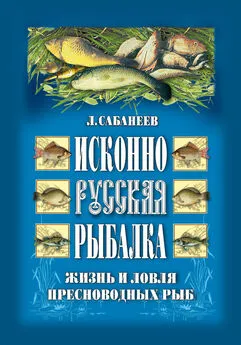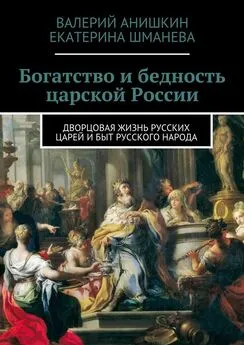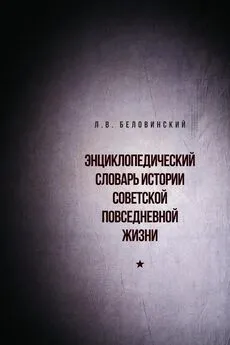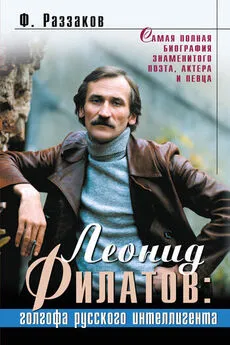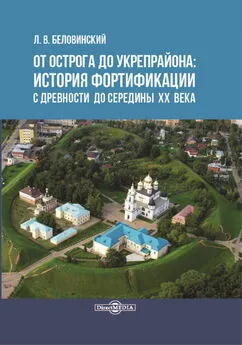Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы
- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0222-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание
Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».
Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.
Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Один из гуманнейших людей своего времени, С. Т. Аксаков лишь вторит графу Ф. В. Ростопчину, писавшему, что в доме графа А. Г. Орлова с его 370 человеками прислуги «лакеи, камердинеры, кучера, конюхи, музыканты, певчие, горничные и прочие… жили, приблизительно, как на корабле, переполненном войсками… Барский дом изображал собою одновременно подобие тюрьмы, воспитательного дома, конуры и харчевни» (Цит. по: 106; 271). Далее Ростопчин пишет: «При всем этом услужение было весьма плохое… безделье располагало их к беспорядочности и, рассчитывая один на других, никто из них не хотел заниматься работою». Л. В. Тыдман, сообщает, что богатейший помещик России П. Б. Шереметев постоянно напоминал своему управляющему о необходимости искать и нанимать вольнонаемных слуг с хорошей репутацией.
Впрочем, можно было понять и дворню, отлынивавшую от дела: обязанная постоянно находиться под рукой для мелких услуг, она практически не имела бы ни минуты времени для себя, кроме сна на полу, прерываемого барскими вызовами подать или унести то-то и то-то, если бы не пользовалась любой возможностью улизнуть из дома. Если весьма реакционного Ростопчина мы имеем основание упрекнуть в несправедливых суждениях, то уж к революционеру-демократу А. И. Герцену этот упрек абсолютно неприложим. Но вот что пишет он о дворовой прислуге, жившей, правда, не в деревне, а в городской усадьбе отца: «После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по полпивным и по трактирам» (27; 103). Снисходительно относится Герцен, впрочем, как и его отец, к воровству прислуги: «Спиридон был отличный повар; но, с одной стороны, экономия моего отца, а с другой – его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то, что блюд было много» (27; 97). В Прощенное воскресенье отец автора, отличавшийся своеобразным сарказмом, беседует с прислугой: «Ну, Данило… Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости… Теперь настает пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех» (там же). По утрам отец автора «…ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он, как нарочно, был создан для того, чтобы дразнить моего отца и вызывать его поучения… Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение тридцати пяти лет. Камердинер, с своей стороны, не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения: он по большей части к обеду был несколько навеселе. Отец мой замечал это и ограничивался легкими однословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтобы не пахло водкой» (27; 95–96).
Воровство прислуги было непомерным, и в занятиях помещиков заметное место занимало сведение прихода и расхода, всегда, впрочем, безуспешное. «После приема мерзлой живности , – пишет Герцен, – отец мой, – и тут самая замечательная черта в том, что эта штука повторялась ежегодно, – призывал повара Спиридона и отправлял его в Охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше, чем вполовину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец, Слепушкин предлагал взять все огулом: и яйцы, и поросят, и масло, и рожь, «чтоб вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было». Цену он давал, само собою разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался, Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару – двухсотрублевую ассигнацию» (27; 91).
Что возмущало автора, так это форменный грабеж крепостной прислугой крепостных крестьян, то есть, в общем-то, своей же братии. Классовая солидарность здесь почему-то не действовала. «Всякий год около масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенска оброк натурой . Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свиными тушами, поросятами, гусями, курами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали за воду в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы – за тепло в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги, делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой» (27; 90). При снисходительном барине крестьяне терпели от своей братии. «Старосты и его missi dominici (господские подручные. – Л. Б. ) грабили барина и мужиков… в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое лето ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля, он при мне раз на дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок» (там же).
Так что гоголевский Осип из «Ревизора» или гончаровский Захар из «Обломова», ленившиеся, пьянствовавшие и обманывавшие своих господ, – не литературные образы, а фиксация крепостной повседневности.
Крепостное право развращало и господ, привыкавших к безнаказанности, и крепостных, прежде всего дворовых, лакеев, особенно доверенных своих господ. Дворовые больших бар настолько входили в свою роль, что и мелкопоместных дворян третировали, как каналий. Вспомним историю, поведанную А. С. Пушкиным в «Дубровском» – вся драма началась с дерзкой реплики троекуровского псаря старику Дубровскому: «Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, – сказал он, – благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конуру» (79; 127). Что же тогда говорить об отношении дворни, набиравшейся возле господ «изящных» манер и привыкавшей к «деликатному» житью в передней, к «сиволапым» мужикам-пахарям, ее кормивших. По разумению лакейства, сиволапые, не знавшие тонкости обращения, едва ли были немногим выше животных. Этим, между прочим, лакейство отличалось от своих господ, все же мужиков-кормильцев, как правило, уважавших. Поэтому нередко в помещичьих семействах лакейская считалась гнездом разврата (чем обычно и была) и детям просто запрещалось общаться с дворней и заходить в лакейскую и девичью. Хорошо известно, что лакеи даже выработали свой собственный, «изящный» язык, наслушавшись барских разговоров. Например, в ответ на чиханье, говорилось: «Салфет вашей милости» – подслушанное у господ и непонятое латинское salve («будь здоров»). Салфетка, обычная принадлежность служившего за столом лакея, была ему понятнее. Впрочем, вероятно, дело здесь не только в крепостном праве. Чарльз Диккенс в «Посмертных записках Пиквикского клуба» оставил нам картину лакейского сваре (суаре) с «изящными» костюмами, манерами, разговорами и третированием зеленщика, у которого происходило это малопочтенное собрание. Известно было, что в русских трактирах самыми несносными, грубыми и капризными клиентами были… трактирные половые и ресторанные официанты, звавшие своих, обслуживавших их коллег, не иначе, как «шестерка» и «лакуза».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: