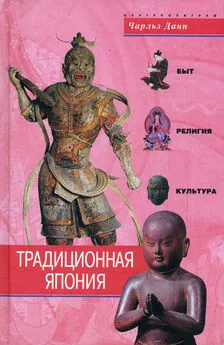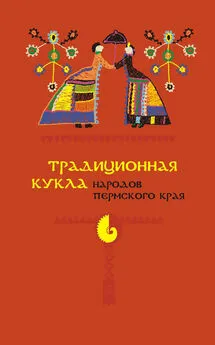Александр Мещеряков - Традиционная Япония: обязанности взрослых и радости старцев
- Название:Традиционная Япония: обязанности взрослых и радости старцев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Традиционная Япония: обязанности взрослых и радости старцев краткое содержание
Статья.
Опубликована в журнале «Отечественные записки» 2014, № 5(62)
http://magazines.russ.ru/oz/2014/5/11m.html
Традиционная Япония: обязанности взрослых и радости старцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
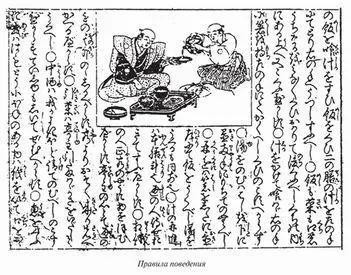
В понятие «взрослая одежда» входила и набедренная повязка (фундоси), свидетельствующая о достижении половой зрелости. С этого момента человек получал возможность вступать в брак. Набедренную повязку дарили бабки или тетки по материнской линии. В качестве подготовительной (испытательной) меры для вступления в брачную жизнь молодому человеку предлагался первый сексуальный партнер. Обычно это была одна из его половозрелых сестер, но матери и соседским девушкам также случалось исполнять роль такого партнера. Кроме того, молодой человек мог получать в подарок «нескромные картинки» (цветные гравюры), которые имели в данном случае обучающий характер. Такие картинки выступали и в качестве приданого.
Переход во взрослое состояние означал также, что отныне человек может и должен выполнять взрослую работу, участвовать в ритуалах, сопровождающихся винопитием. Детали церемонии посвящения во взрослые (одежда, прическа, аксессуары) могли различаться в зависимости от местности и социального статуса (так, самурайский сын оделялся мечом, что было невозможно для людей других сословий), но во всех случаях смысл оставался неизменным: переход в половозрелое состояние и готовность исполнять профессиональные обязательства.
Воспевание праздного времяпрепровождения было для времени зрелости делом немыслимым. Трудолюбие выступает в качестве необходимой характеристики жизни «правильного» человека. Ниномия Сонтоку (1787–1856) подчеркивал важность труда и физической активности тела в деле самосовершенствования: «Путь человека приходит в упадок сразу, если хотя бы один день ничего не делать. Поэтому в пути человека ценится труд и не пользуется уважением бездействие и предоставление делам идти своим чередом. То, к чему следует стремиться, вступая на Путь человека, есть учение о преодолении себя. Вещь, называемая «я», означает личные страсти. Если искать сходство, то личные страсти будут соответствовать сорной траве на полях. Преодоление и есть прополка выросшей на полях сорной травы. То, что называется преодолением самого себя, есть работа, состоящая в вырывании и выбрасывании выросшей на полях сорной травы и взращивании риса и зерновых в собственном сердце. Это называется Путем человека» [5] Цит. по: Карелова Л. Б. У истоков японской трудовой этики. М.: Восточная литература, 2007. С. 54, 160.
.
Если к исполнению профессиональных обязательств приступали сразу после посвящения во взрослые, то возраст вступления в брак имел тенденцию к повышению. Это был защитный механизм против относительного перенаселения. В XVIII–XIX веках население страны стабилизировалось на уровне 32–33 миллионов человек — больше японская земля прокормить не могла. Другими средствами по ограничению рождаемости служили уход в монахи, запрет на браки младших сыновей, инфантицид.
В середине периода Токугава брачный возраст составлял для мужчин 24–25 лет. До этого времени физиологические потребности молодежи в значительной степени удовлетворялись за счет широко развитой сети публичных домов. Семья воспитывала в среднем 2–3 детей.
Помимо деторождения и трудовой деятельности другой основной обязанностью взрослого человека оставалась забота о родителях и беспрекословное подчинение им. После рождения ребенка отец наступал на плаценту или же захоранивал ее — этот ритуал был призван обеспечить беспрекословное послушание в дальнейшем. Известный мыслитель Исида Байган (1685–1744) утверждал, что не только имущество семьи принадлежит родителям: «Ваше собственное тело также изначально является телом ваших родителей, и поэтому они могут использовать его по своему усмотрению, даже продать, если им захочется, и вы не должны жаловаться» [6] К арелова Л. Б. Учение Исиды Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой этики в Японии. М.: Наука, 2007. С. 164.
. Действительно, продажа девушек в публичные дома не осуждалась обществом — считалось, что они оказывают материальную помощь родителям и образцово исполняют тем самым свой дочерний долг.
Другой конфуцианский мыслитель, Кайбара Экикэн, так поучал молодое поколение: «Тело человека появляется благодаря отцу и матери, оно имеет своим истоком Небо и Землю. Человек рождается благодаря Небу и Земле, отцу и матери, а потому и взращиваемое им тело не является его собственностью. Тело, дарованное Небом и Землей, тело, полученное от отца с матерью, следует взращивать с почтением и тщанием, не принося ему вреда. Жизнь должна быть долгой. В этом и заключен сыновний долг перед Небом с Землей, перед отцом с матерью. Если потеряешь тело, то и служить станет нечем. Поскольку внутренности, кожа и тело, волосы достаются нам от родителей, то содержать их в беспорядке и уродовать — сыновняя непочтительность. Какая это непочтительность по отношению к Небу и Земле, отцу и матери: великое предназначение считать делом личным, пить–есть и желать–алкать по своему хотению, портить здоровье и привечать болезни, сокращать дарованные Небом годы и умирать до срока!» [7] К айбара Экикэн. Ёдзёкун, вадзоку додзикун. Токио: «Иванами», 1964. С. 24.
Так обосновывалась высокая необходимость заботиться о своем теле — ведь его предназначением является неустанная забота о родителях, что одновременно служило гарантией лояльности самурая и по отношению к сюзерену. Мать, сын которой попал в заключение по подозрению в неверности сюзерену, писала: «Когда его отец был жив, он был очень преданным сыном, он тщательно ухаживал за ним, в особенности тогда, когда отец болел. Я видела это сама. Поэтому невозможно, чтобы такой преданный сын, как он, мог совершить какое бы то ни было преступление против нашего господина» [8] The Autobiography of Yukichi Fukuzawa. New York: Columbia University Press, 2007. P. 257.
.
Культ родителей и предков предполагал культ старости, а не молодости. В Японии того времени почиталась не столько молодецкая удаль, сколько присущая старикам мудрость. Ее символами были журавль, на котором путешествуют бессмертные даосские святые, черепаха–долгожительница, креветка с ее изогнутым («согбенным») телом, искривленная ветрами и годами сосна. В качестве идеала для подражания служили согбенные мудрецы, а не физически сильные и красивые молодые люди. Можно сказать, что японцы того времени стремились не к вечной молодости, а к вечной старости. В Японии того времени появление мыслителей типа Жан — Жака Руссо с его педоцентрическими идеями было делом совершенно немыслимым.

Интервал:
Закладка: