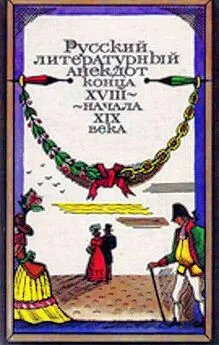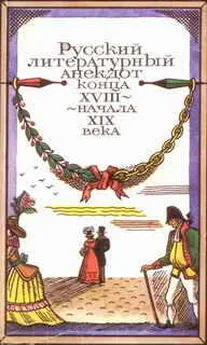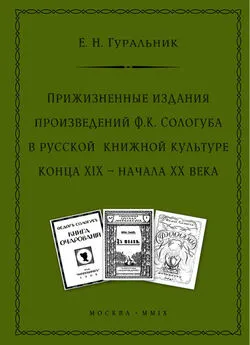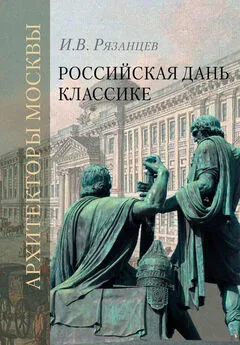Андрей Зорин - Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века
- Название:Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0436-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Зорин - Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века краткое содержание
Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан. Детальная реконструкция этой загадочной истории основана на предложенном в книге понимании механизмов культурной обусловленности индивидуального переживания и способов анализа эмоционального опыта отдельной личности. А. Л. Зорин – профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социально-экономических наук.
Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но главное сходство между любовной историей Андрея Тургенева и миром пушкинского романа состоит в литературности переживаний действующих лиц. «Любви нас не природа учит, / А Сталь или Шатобриан», – сказано в вычеркнутой из окончательного текста девятой строфе первой главы. Черновой вариант последней строки «А первый пакостный роман…» только еще резче высвечивает связь любовных переживаний молодого человека с кругом его чтения. История отношений Онегина и Татьяны представляет собой, по сути дела, поединок на книгах.
На первом этапе Евгений полностью владеет эмоциональным репертуаром влюбленной девушки, сформированным Ричардсоном, Руссо и мадам де Сталь, в то время как его мир остается для нее загадочным. Это соотношение сил определяет исход их первой встречи. Однако затем знакомство с небольшим количеством сочинений, составлявшим библиотеку Онегина, помогает Татьяне понять его эмоциональные матрицы, и очевидное преимущество оказывается уже на ее стороне.
Как известно, «несколько творений», исключенных Онегиным из «опалы», которые читает Татьяна в его кабинете, – это поэмы Байрона, «Рене» Шатобриана и «Адольф» Бенжамена Констана (см.: Лотман 1995: 652; Набоков 1998: 498–501 и др.). С этим багажом ей уже было легче принять решение о замужестве и отвергнуть чувства героя – она читала «Адольфа» с пометами Онегина на полях и знала, чем кончаются подобные сюжеты [171].
Пушкин был осведомлен об истории Андрея Ивановича, но вряд ли особенно глубоко – и для Александра Тургенева, и для Жуковского, которые могли бы ему о ней рассказать, эти воспоминания были слишком болезненными. С другой стороны, поэт прекрасно знал самих Александра Ивановича и Василия Андреевича и хорошо представлял себе этот человеческий тип.
Пушкин обнаружил и поколенческий разлом – старшие Ларины описаны скорее как «традиционно ориентированные» характеры. Романы Ричардсона мало повлияли на строй личности матери Татьяны, которая сама уже вполне пережила карамзинскую революцию (см.: Kelly 2001). Символические модели чувств, значимые для главных героев, различны, но все они ищут эмоциональные матрицы в литературе и реализуют их, прежде всего, в сфере любовных переживаний. Эта практика проявила значительную устойчивость к движению времени.
Николай Плотников, проследивший эволюцию представлений о личности в русской культуре, датирует возникновение «дискурса творческой индивидуальности» серединой XIX века и связывает его распространение с «влиянием публицистики Белинского, который адаптировал на русском языке идеи немецкого идеализма» (Плотников 2008: 73–78). Однако Белинский не только популяризировал Гегеля, но и вырабатывал свое понимание личности и истории на примерах героев Пушкина и Лермонтова.
Такое сочетание определялось не только пристрастиями неистового Виссариона. Как показал М. Г. Абрамс, гегелевская «Феноменология духа» представляла собой своеобразный Bildungsroman или даже «Bildungsbiographie, в буквальном смысле этого слова, историю, или биографию духа» (Abrams 1973: 229–230), вновь обретающего в историческом развитии утраченное единство. В основе сюжета этого биографического романа лежал базовый для культуры конца XVIII – начала XIX века миф о блудном сыне, возвращающемся к Отцу, изгнаннике, тоскующем по утраченному раю. Согласно Абрамсу, одним из создателей романтического извода этого мифа был Шиллер, опиравшийся, в свою очередь, на Руссо (см.: Ibid., 199–252).
В русской литературе синтез гегелевской философии с романтической словесностью нашел свое наиболее полное воплощение в «Былом и думах» Герцена, применившего «Феноменологию духа» к обстоятельствам собственной жизни (см.: Paperno 2007; Schmid 2007). Исходным импульсом для создания этой историософской автобиографии послужило для Герцена стремление донести до потомства устраивавшую его версию своей семейной драмы. Как пишет Ирина Паперно, поначалу и Герцены, и Гервеги
разделяли общую веру в трансцендентную силу и социальный потенциал «дружбы-любви», эмоции, которая может объединять в гармонических отношениях более чем двух человек. Эта вера опиралась на литературные модели, заимствованные из книг, посвященных опасностям и преимуществам отношений в трех– и четырехугольниках: Руссо («Исповедь» и «Новая Элоиза»), Гете, Жорж Санд (ее романы и мемуары) и «Кто виноват» самого Герцена составляли круг их чтения.
Главный образец для себя они нашли у Жорж Санд, романы которой рисуют эмоциональную утопию, где разрушительный потенциал таких страстей преодолен в гармонических отношениях трех (если не четырех) людей, которые дополняют друг друга, образуя неразделимое единство (Paperno 2007: 9; ср. также: Klieger 1997; Hollande 1997).
Потрясенный крушением этой утопии Герцен оказался поставлен перед необходимостью соотнести свою реакцию на неверность жены со значимыми для него образами чувства. Так родилась уникальная историософия «Былого и дум», где любовный треугольник предстает не только как проявление кризиса европейской демократии, но и как «столкновение двух разных миров», подобное тому, о котором автор читал в юности во французском романе «Арминий». Герцену, как он пишет, «не приходило в мысль», что он «попадет в такое же столкновение» и его очаг опустеет, раздавленный при встрече «двух мировых колей истории» (Герцен 1956 Х: 538; о смене литературных моделей Герцена см.: Гинзбург 1997).
Появившиеся на протяжении 1860-х «Отцы и дети», «Преступление и наказание» и «Война и мир» стали художественной рефлексией следующего поколения русских писателей над людьми этой историко-психологической формации и первым прощанием с ней.
Как трудность признания астрономической истины движения земли состояла в том, чтобы отказаться от чувства неподвижности земли и движения планет, так трудность признания нового закона подчиненности личности законам движения ее во времени состоит в том, чтобы отказаться от внутреннего сознания неподвижности единства своей личности, –
писал Толстой в набросках эпилога к «Войне и миру», ссылаясь на открытия Дарвина, Сеченова, Вундта и Бокля, доказавших «истину подвижности личности» (Толстой 1928–1964 XV: 233–234). Мысль об изменчивости характера была бы в 1860-х годах трюизмом, ради которого не стоило призывать на помощь все современные науки. Взгляды Толстого были куда более радикальными, он полагал, что человек подчинен законам движения и лишен свободы воли, а поэтому не обладает внутренним единством и не может быть субъектом ни истории, ни даже собственной жизни.
Это миропонимание он счел, тем не менее, возможным и нужным выразить в романе о людях начала XIX века и их любовных страстях. Рассказ о катастрофе 1812 года завершается двумя свадьбами героев. Написав 6 декабря 1868 года, что философия должна «узнать общие законы», для чего «надо отрешиться от личности», представляющей собой только «точку линий» (Там же, 132), Толстой уже на следующий день пояснил в записной книжке, что законы – это «или мистическое движение вперед, или художе<���ственное> воспроизведение воспоминаний» (Там же, XLVIII: 87).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: