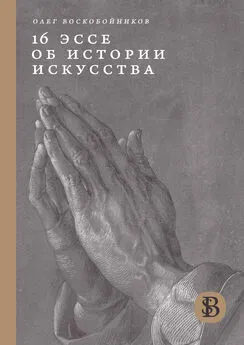Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада
- Название:Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0382-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Воскобойников - Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада краткое содержание
Книга представляет собой очерк христианской культуры Запада с эпохи Отцов Церкви до ее апогея на рубеже XIII–XIV вв. Не претендуя на полноту описания и анализа всех сторон духовной жизни рассматриваемого периода, автор раскрывает те из них, в которых мыслители и художники оставили наиболее заметный след. Наряду с общепризнанными шедеврами читатель найдет здесь памятники малоизвестные, недавно открытые и почти не изученные. Многие произведения искусства иллюстрированы авторскими фотографиями, средневековые тексты даются в авторских переводах с латыни и других древних языков и нередко сопровождаются полемическими заметками о бытующих в современной истории искусства и медиевистике мнениях, оценках и методологических позициях.
О. Воскобойников – ординарный профессор Высшей школы экономики, сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, PhD Высшей школы социальных наук в Париже, доцент кафедры истории Средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Существовала, однако, и противоположная точка зрения, тоже подкрепленная евангельской историей: Евангелие ниспослано всем народам, и апостолы получили дар Святого духа говорить на разных языках. Франкфуртский собор 794 г. осудил убеждение, что «Богу можно молиться только на трех языках, ибо, если молитва праведна, молящийся будет услышан» (64, 44). Возможно, под влиянием этого решения образованной элиты и в рамках масштабных реформ Карла Великого появились первые переводы отдельных книг Писания, в частности Евангелия от Матфея. В отличие от полноценного готского перевода Ульфилы (IV в.), не говоря уже о развитых восточнохристианских традициях – сирийской, коптской, армянской, потом славянской, – эти фрагменты задумывались как вспомоществование тем, кто недостаточно силен в латыни, как параллельные тексты, билингвы . Карл, обладавший к 800 г. огромным культурно-религиозным авторитетом, наверное, смог бы осилить и создание настоящей «франкской» Библии. Но, возможно, его клир чувствовал разнобой в диалектах, смысловую неупорядоченность отдельных слов, неустойчивость грамматики языков подвластных Карлу племен. Все это не могло не привести к смысловой неурядице и в священном тексте. О недоверии к teodisca lingua , т.е. «народному языку» (откуда нем. Deutsch и итал. tedesco), и даже его алфавиту откровенно говорится в небольшом трактате «О происхождении языков», приписанном каролингскому богослову Храбану Мавру: «Вот буквы, которые используют маркоманны, которых мы называем норманнами. Ими пользуются говорящие на народном языке. Те, кто до сих пор погряз в языческих обрядах, записывают ими свои песни, заклинания и гадания». В его небольшом, курьезном даже для своего времени обзоре истории алфавитов нашлось место и «трем священным языкам», и рунам, и монограммам, которыми его современники пользовались в качестве подписей. Но только «родной» язык получил столь спорную оценку.
Может быть, дело еще и в том, что латынь была на галльских землях и в Италии еще слишком употребительной, не столь отчужденной от паствы, как станет потом. Поэтому Алкуин, выходец из Йорка, и его соратники по придворной академии, образованнейшие люди своего времени, ограничились тем, что постарались исправить накопившиеся в рукописях Библии ошибки. Такая работа по исправлению, в чем-то схожая с современной классической филологией, не прекращалась на протяжении всего Средневековья.
На Британских островах ситуация была иной. Там латынь была действительно вторым языком, и за переводы религиозных и философских текстов брались даже государи, например король Уэссекса Альфред Великий (849–889). Неизвестно, в какой степени он лично участвовал в переводе Писания, но характерны слова Элфрика, монаха, взявшегося в его время за перевод «Бытия» с латыни на древнеанглийский – язык, к тому времени литературно окрепший: «Я беспокоюсь, как бы из этого дела не вышло беды для меня или кого-либо еще, кто возьмется за него. Боюсь, что какой-нибудь безумец, прочтя или прослушав этот текст, подумает, что он может жить сейчас, при новом законе, так, как жили праотцы до старого закона или при Моисее. Я знал одного священника, ставшего потом моим учителем, у него была Книга Бытия и он кое-что понимал по-латыни: так вот он без обиняков заявлял, что, мол, у Иакова было четыре жены – две сестры и их служанки. И это, конечно, правда, но ни он, ни я не понимали, сколь велика разница между Старым законом и Новым».
Такие опасения симптоматичны и характеризуют целую эпоху: максимально верный оригиналу перевод священного текста одновременно предает его, ведь времена изменились, и сердце верующего смутится, если он увидит все как есть , скажем, в «Песни песней». В этом смысле работа авторов русского Синодального перевода, сглаживающего многие «острые углы» обоих заветов, типологически сопоставима с работой их далеких предшественников. Альтернативой буквальным переводам было то, что мы сейчас назвали бы пересказом, адаптацией: таковы «Гимны Кэдмона», известные и в русском переводе, таков масштабный, в шесть тысяч строк, старосаксонский эпос о жизни Иисуса, известный под данным ему в XIX в. названием «Спаситель», Heliand. Он был написан, видимо, по заказу Людовика Благочестивого около 830 г. для того, чтобы укрепить строптивых саксов в навязанной им Карлом Великим вере: незачем удивляться, что в таком в прямом смысле эпическом «Спасителе» нетрудно узнать «кольцедробителя» Беовульфа, а в апостолах – дружинников. Ведь он должен был наставить на путь истинный варвара.
История Библии – не история «рецепции» некоего текста, а что-то принципиально иное. Библией не исчерпывается средневековое сознание, но она может почти все в нем объяснить. Библию знали не все, зато иные знали ее едва ли не наизусть. При чтении некоторых текстов зрелого Средневековья мы рискуем утонуть в библейских цитатах. Средневековый мыслитель не тонул в них, а свободно плавал, зачастую Библия становилась его образом мышления. Причем это касается не только богословских трактатов или церковных проповедей, но и, например, исторических произведений или дипломатической переписки между церковными иерархами и светскими государями. Такова «Хроника» францисканского монаха Салимбене конца XIII в., состоящая из библейских цитат едва ли не на треть. Таково творчество великого проповедника XII в. Бернарда Клервоского, довольно посредственного богослова, но прекрасного латинского стилиста, сделавшего именно из библейского текста свое главное полемическое оружие. Что говорить о буллах и иных папских посланиях, подражавших Бернарду! Но то же мы найдем в частной переписке духовных писателей: удачно подобранная, пусть и вырванная из контекста цитата из Писания, хотя бы в несколько слов, могла в буквальном или метафорическом смысле описать любую жизненную ситуацию, философскую концепцию или эмоцию, потому что отсылала образованного читателя, словно метонимия, словно pars pro toto , к истории Спасения.
Чем объясняется то, что Библию не цитировали, в современном смысле слова, а ею мыслили? Чтение Библии, lectio divina , на многие века стало регулярным каждодневным духовным упражнением образованной части общества, т.е. клира, что особым образом тренировало память. Начиная моральный комментарий к Книге Иова, ставший на века настольной книгой проповедников, Григорий Великий в конце VI в. писал, что «божественное Писание подобно реке, которая то течет плавно, то вздымается: агнец переходит ее вброд, а слону приходится плыть». Понимая метафорический смысл этого зачина, прекрасно раскрытый затем толкователем, средневековый читатель понимал «сложную простоту» Библии, множество уровней ее прочтения. Во многом такая позиция по отношению к чтению противоположна риторической традиции Античности: для ритора написанный текст, чтение – иссохшее русло полноводной реки: живого, произносимого слова. Не книга, а именно речь была их оружием!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



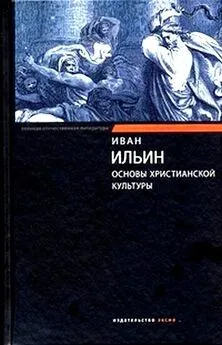
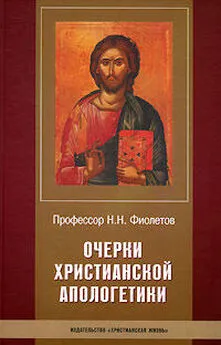



![Олег Климов - Пергамское царство [Проблемы политической истории и государственного устройства]](/books/1097431/oleg-klimov-pergamskoe-carstvo-problemy-politiches.webp)