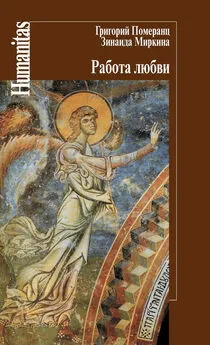Григорий Померанц - Работа любви
- Название:Работа любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:М., СПб.
- ISBN:978-5-98712-119-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Померанц - Работа любви краткое содержание
В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной за последние 10 лет, а также эссе на родственные темы. Цель авторов – в атмосфере общей открытости вести читателя и слушателя к становлению целостности личности, восстанавливать целостность мира, разбитого на осколки. Знанию-силе, направленному на решение частных проблем, противопоставляется знание-причастие Целому, фантомам ТВ – духовная реальность, доступная только метафизическому мужеству. Идея Р.М. Рильке о работе любви, без которой любовь гаснет, является сквозной для всей книги. Впервые опубликовано под названием «Невидимый противовес» в 2005 г. в издательстве «Пик».
Работа любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
… Все в новом декадентском стиле,
Дешево, мило и практично…
Довоенное время в целом всплывало в разговоре как мирное время. В это мирное время все было устойчиво и дешево. Французы его назвали прекрасной эпохой (belle époque). Потом оно стало восприниматься как затянувшийся конец XIX в., до настоящего ХХ-го (как сказала Ахматова). И Пастернак назвал переломную дату: «1913 год был последним, когда легче было любить, чем ненавидеть».
Можно процитировать других авторов: Маяковского, Ленина, и заметить, что ненавидеть всегда легко. Но сравнительно с тем кипением ненависти, которое началось после июля 1914 г., начало века кажется идиллией. Был погром в Кишиневе (полсотни убитых). Были столыпинские виселицы. Лев Толстой просил, как Савельич, чтобы лучше его, старика, повесили. Сейчас никто этого Столыпину не поминает, тысячи повешенных остались в истории, в памяти постсоветской публицистики их нет, мы на тысячи не мерим, у нас счет на миллионы.
Господствующее сознание довоенных лет твердо верит в прогресс. И не просто верит, оно знает, что растет экономика, растет просвещение, растет наука, техника – а значит, жизнь становится лучше. Достоевский точно описал надвигающийся духовный кризис, но его считали неврастеником. Росло и физическое, и духовное богатство. Мудрецы древности перевелись, но ученые открывали взору современников сокровища былых культур. Макс Вебер, соперник Маркса в объяснении генезиса капитализма, считал решающим достоинством христианства «расколдовывание мира», упразднение множества богов во имя одного, далекого и абстрактного; а протестантская этика ценилась им как важнейший фактор первоначального накопления. На духовном уровне – та же базаровская идея: природа не храм, а мастерская. Вера в прогресс носилась в воздухе. Чеховские герои мечтали о прекрасном будущем России через 200, 300 лет. Революционеры старались ускорить историю.
Сейчас образ светлого будущего рухнул. Но не удалось вернуться и к христианскому итогу истории, к образу тысячелетнего царства праведных после Второго пришествия Христа. Современное сознание осталось в Зазеркалье. Мой друг Михаил Блюменкранц пишет: «…Мы живем в полном информационном хаосе, симулирующем наличие исторического космоса. Все эти бесчисленные события не выстраиваются для нас в осмысленный ряд и по большей части оставляют нас совершенно безучастными. Мир для нас так же мозаичен и фрагментарен, как мозаично и фрагментарно наше существование в нем. Мы наглухо закапсулированы в малом времени своего существования, в серой скорлупе будней. Мы монады без окон (в смысле окна к Целостности бытия. – Г.П. ), но с телеэкранами (вносящими в дом хаос сталкивающихся осколков. – Г.П. ). Мы давно уже не живем в историческом мире, но мы охотно за ним подглядываем», подглядываемым за обрывками истории. Поток фактов не останавливается, но ни цели, ни смысла в нем не видно. Тенденции, доступные анализу, ведут в пропасть. Хочется бежать от этой перспективы, освободиться «от кошмара истории», как выразился Мирче Элиаде.
Румыния, из которой происходит Элиаде, действительно переживала историю скорее как ряд кошмаров, чем ряд славных событий. Одно завоевание, одно бедствие сменялось другим. Попытка выступить в истории со своим новым словом здесь, впрочем, была, в 30-е годы, но кончилась плачевно. В кругу Кодряну, создателя железной гвардии, возникла теория (или миф), что итальянский фашизм исходил из культа государства, т. е. плоти истории; немецкий фашизм – из нации (души истории). А в Румынии (центра православия после победы атеизма в России) победит фашизм духа, опирающийся на православное предание. К этому движению примкнуло несколько талантливых молодых людей. Но Кодряну не поладил с королем и был уничтожен, его штаб разгромлен, талантливые молодые люди эмигрировали во Францию. Элиаде стал известен как исследователь и апологет мифологического мышления – Эжен Ионеско, подправивший свое имя и фамилию на французский лад, разочаровавшись в истории, создал театр абсурда. В одной из пьес он описал фашизацию народа как процесс превращения в носорогов. Элиаде в увлечениях юности не раскаивался; они привели его к открытию ценности мифа.
Наряду с распадом образа истории распадается и образ личности. В мире, лишенном цельности, личность тоже не умеет обрести цельность; заглядывая в себя, она не может преодолеть своей осколочности, «обреченность осколка жизнь сосуда вести». Бродский это написал после разрыва с женщиной, но можно понять самый разрыв как следствие осколочного характера, ранящего ближнего своими острыми углами, следствие неспособности создать одно сердце на двоих в браке или, в аскезе, – гармонию двух образов и подобий, мужества и кротости; мужества в борьбе с соблазном и открытости, уязвимости , как учил Антоний Сурожский, – в молитве. Возможно, эта лаконически изложенная формула не совсем понятна, и я попробую пояснить одну метафору другой, которую уже не раз использовал. Сильно развитая личность подобна заливу океана. У нее есть свои берега, иногда очень своеобразные, неповторимые, как в норвежских фиордах, но все фиорды открыты океану, и в океане – их цельность, их общая бесконечность. Другое дело, если выход в океан загроможден или полностью закрыт и личность со всех сторон окружена берегами, отделена от других. Такой закрытый человек может полюбить, но не может ужиться с любимым. Другой – по выражению Сартра – отымает у него пространство, не сливается с ним, а теснит его. Стиснутые вместе, в семье или на пороге семьи, люди начинают ненавидеть друг друга и с болью расстаются. Разумеется, все это метафоры – метафора океана, метафора замкнутого водоема. Но эти метафоры помогают понять внутренние трудности современного человека, не находящего цельности ни в личных контактах, ни в глобальных исторических движениях.
Если не говорить об интеллектуально отсталых политиках США, полных спеси прошлых лет, Запад растерян. История перестала быть бременем белого человека, как выразился Киплинг, мандатом на господство, на колониальное управление азиатами и африканцами, застывшими в своей нищете. Сегодня ветер с Востока задувает ветер с Запада, по крайней мере спорит с ним – и в экономическом развитии, и в международной политике, и в религии. Восточные учения, воспринимаемые сплошь и рядом как техника экстаза, увлекают постхристианский Запад, оспаривают монополию христианской традиции.
В начале прошлого века казалось, что гражданские цели и ценности Запада с триумфом распространяются на Восток, взрывая империи (в России, Иране, Китае). Сейчас можно говорить о кризисе свободы. Защита прав человека не выдерживает натиска событий. Приходится удерживать поток иммигрантов, бороться с глобальным террором, и впереди маячит необходимость каких-то ограничений либеральной рыночной экономики, каких-то лимитов развития, сохраняя саму жизнь на Земле от разрушительных триумфов науки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: