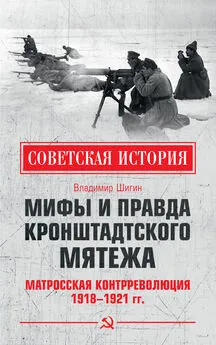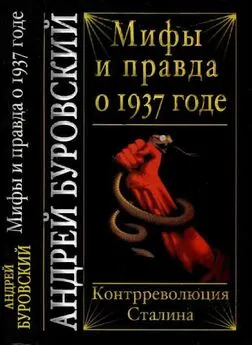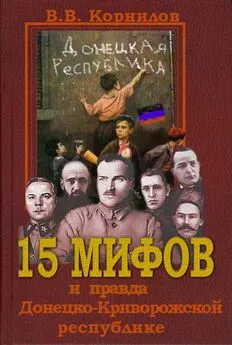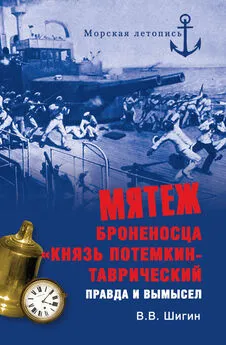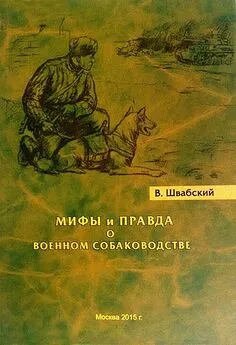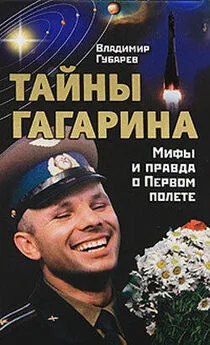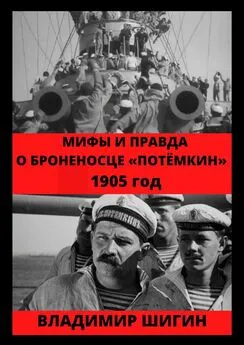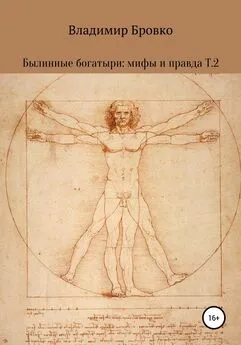Владимир Шигин - Мифы и правда Кронштадтского мятежа. Матросская контрреволюция 1918–1921 гг.
- Название:Мифы и правда Кронштадтского мятежа. Матросская контрреволюция 1918–1921 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8655-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шигин - Мифы и правда Кронштадтского мятежа. Матросская контрреволюция 1918–1921 гг. краткое содержание
Основанная на многочисленных документах и воспоминаниях участников событий, книга историка флота В. В. Шигина рассказывает об одной из трагических страниц нашей истории.
Мифы и правда Кронштадтского мятежа. Матросская контрреволюция 1918–1921 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще один матрос-уголовник Гурьев служил в 1918 году в Николаевской ЧК. При этом Гурьев якобы публично хвалился тем, что уничтожил три тысячи человек, и брал на себя обязательство довести счет жертв до пяти тысяч, после чего обещал остановиться и заняться более мирным строительством социализма.
В Одесской ЧК палачом служил откровенный уголовник матрос-латыш Абаш. По свидетельству Л. Нагилева, большинство казней в Одессе были совершены при его участии. Среди его жертв – генерал Эбелов, купец 1-й гильдии Кальфа, купец 1-й гильдии Зусович, несколько немецких колонистов. По свидетельству того же автора, Абаш не скрывал, что президиум ЧК за каждого расстрелянного выдаёт палачу от 500 до 1000 рублей и в собственность вещи казнённого.
Довольно часто матросскую форму использовали всевозможные проходимцы и откровенные враги. Из воспоминаний участника Гражданской войны: «Три подобных типа еще в восемнадцатом году играли заметную роль в Брянской федерации анархистов… Третий анархист, Васько Богдан, отличался прямо-таки бешеным нравом. Всегда обвешанный оружием, носил бескозырку, тельняшку, бушлат и брюки клеш. В то же время какие-то неуловимые штришки давали основание предполагать, что моря этот «альбатрос» и не нюхал. Пешком Васько Богдан не ходил – носился по городу на огромном вороном жеребце. На черной попоне красным шелком был вышит лозунг: «Дух разрушающий есть дух созидающий!» Жеребца Васько кормил овсом, замоченным в водке, отчего тот мчал своего хозяина по брянским улицам только сумасшедшим карьером. Самого Богдана трезвым тоже никто никогда не видел. Городские обыватели матроса боялись, рассказывали о нем всякие страхи. Во время мятежа… Богдан же бесследно исчез. Почти два года о нем никто не слыхивал, и вот теперь, летом двадцатого, в округе объявилась банда, которой предводительствовал какой-то матрос, очень похожий по описанию на Васько Богдана. Матрос укрылся на хуторе, средь болот, разведал все подходы, возможные пути бегства. Лишь после того, как предпринял все меры по обеспечению операции, приступил к ликвидации. На сей раз из кольца не вырвался никто, но никто и не сдался живым… Когда скоротечный, но яростный бой завершился, Дмитрий подошел к убитому главарю в залитой кровью тельняшке и перевернул его на спину. Это точно был Васько Богдан… Дальнейшим расследованием установлено, что матрос никакого отношения ни к Черноморскому, ни к Балтийскому флотам никогда не имел. Зато имел отношение к разведке польского генерального штаба. Захваченные при нем документы позволили чекистам обезвредить нескольких иностранных и врангелевских шпионов в Брянске и других городах».
Балтийские матросы вообще проходили по линии начальства как комиссары, политработники, чекисты и т. д. (черноморцам доверяли все же меньше). Но если в 1918 году им было позволено почти все, что могла пожелать их душа, то к 1920 году их «начальственная» революционная вольница, приводившая к злоупотреблениям, закончилась. Так, Ф. Э. Дзержинский, будучи в 1920 году, во время войны с Польшей, начальником тыла Юго-Западного фронта, едва не арестовал бывшего матроса Б. Полякова, руководившего фронтовой ЧК, за сомнительные подозрения в рукоприкладстве. Тогда же в Киеве прошел громкий открытый судебный процесс над комиссаром по артиллерии 12-й армии бывшим матросом Агеевым. Он обвинялся во взяточничестве, содержании игорных домов и др. По всей видимости, все это было продолжением его «беспроблемного» образа жизни в 1918–1919 годах, и бывшему матросу было непонятно, за что его теперь «прессуют». Тем не менее Агеев был расстрелян. В соседней Полтаве губернские советские власти взяли сторону уездных левоэсеровских властей Лозовой и Константинограда в их конфликте с посланным туда во главе матросского отряда помощником уполномоченного губернской ЧК матросом Чернецким. В конце концов, Чернецкий с помощниками был отправлен в Харьков и там также приговорен к расстрелу.
Однако и в ВЧК попадались честные и порядочные люди. История сохранило нам имя матроса Н. Куценко – одного из активных участников революционного движения на Черноморском флоте накануне октября 1917 года. Н. Куценко являлся одним из немногих реальных матросов-большевиков с дореволюционным стажем, который, несмотря ни на что, всегда оставался на твердых ленинских позициях без левых и правых заскоков. Таких, как он, в матросской среде были единицы. Кроме этого, Н. Куценко отличала патологическая честность и обостренное чувство справедливости, за что был уважаем в матросской среде особо. Поэтому именно Н. Куценко на 1-м Всероссийском флотском съезде был избран в состав Верховной морской следственной комиссии (ВМСК), которая заменила ранее существовавший военно-морской суд. Более того, вскоре именно Н. Куценко и возглавил ВМСК. Согласимся, что избрать главным судьей над собой малоуправляемая революционная братва могла только того, кого искренне уважала и кому всецело доверяла. Такое уважение и доверие стоит многого!
В годы Гражданской войны Н. Куценко служил в органах ВЧК, работал в крымском большевистском подполье. В ноябре 1920 года, после ухода армии Врангеля из Крыма, он был избран секретарем бюро Севастопольского комитета РКП(б). Когда же в Крыму и Севастополе началось массовое уничтожение оставшихся офицеров, чиновников и представителей интеллигенции, именно Н. Куценко наиболее активно выступил против массовых расстрелов и написал письмо на имя В. И. Ленина о недопустимости зверств по отношению к побежденным. Более того, когда его обращения остались без ответа, Н. Куценко, в знак протеста против развязанного в Крыму террора, демонстративно сложил с себя полномочия секретаря бюро Севастопольского комитета РКП(б). Этот, безусловно, не просто смелый, а отчаянно смелый поступок, который стоил Н. Куценко не только карьеры, но и ареста. Дальнейшая судьба этого храброго и честного человека автору, к сожалению, неизвестна.
А вот пример настоящей мужской дружбы двух матросов-чекистов, попавших под каток репрессий 1937–1938 годов – начальника Днепропетровского управления НКВД М. М. Хатаевича и его шофера С. Клюкина. Из книги А. Днепровца «Ежовщина»: «Снимать» друзей и соратников Хатаевича начали по строгому и тщательно продуманному плану, снизу. Сперва арестовали его личного шофера, бывшего одновременно его старым другом и товарищем по страшному «ледяному транспорту» в 1919–1920 гг. Тогда многие сотни виднейших коммунистов были неожиданно схвачены белыми и, под строжайшим конвоем, в товарном эшелоне, отправлены в белую еще тогда Сибирь. Во время этого «транспорта» Хатаевич потерял правую руку, оставшуюся парализованной на всю жизнь. Нужно отметить, что этот простой человек-шофер, несмотря на то, что он пользовался громаднейшим доверием и дружбой с Хатаевичем, Сергей Клюкин, бывший моряк, обращавшийся к своему начальнику только на «ты» и пользовавшийся несомненным влиянием на своего товарища и шефа. Зачастую он использовал это влияние для смягчения участи многих попавших в опалу ответственных партийных и хозяйственных руководителей. Он (С. Клюкин . – В.Ш. ) до конца остался верен своей многолетней дружбе к своему начальнику и другу. По проникавшим из строгого заключения в тюрьме слухам, он, до последней минуты пребывания в Днепропетровске (потом его тоже увезли в Москву), утверждал на допросах, что его начальник – не враг народа, а только старательный исполнитель воли партии и Сталина. До последней минуты, несмотря на страшнейшие «пристрастия», он отказывался подписывать «обличительные» протоколы… Не подлежит никакому сомнению, что впоследствии он (С. Клюкин . – В.Ш. ) разделил судьбу своего многолетнего партийного друг и начальника…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: