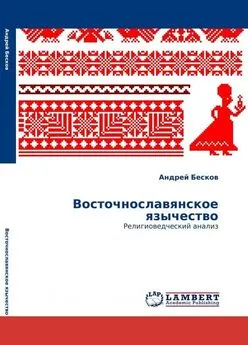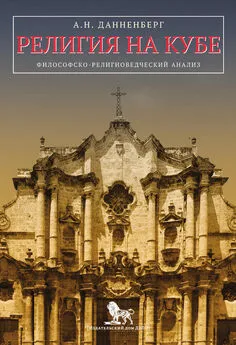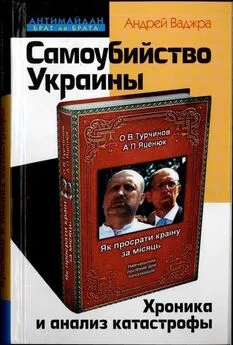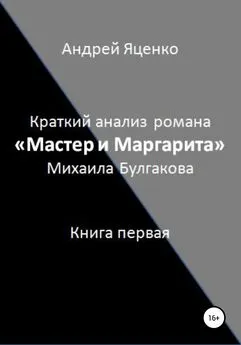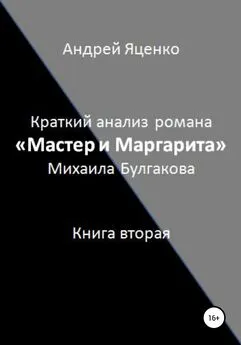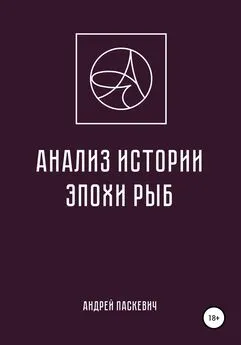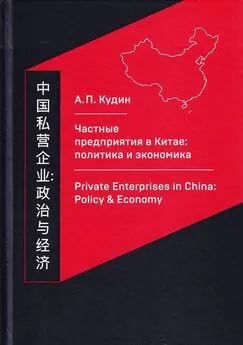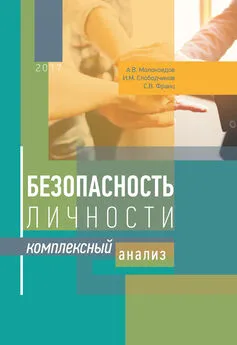Андрей Бесков - Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ
- Название:Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:LAP LAMBERT Academic Publishing
- Год:2010
- Город:Saarbr,ücken
- ISBN:978-3-8433-0023-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бесков - Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ краткое содержание
Книга делится на два взаимосвязанных блока: теоретико-методологический и историко-этнографический. В первом из них предпринят анализ восточнославянского язычества с религиоведческой точки зрения, задана определённая система координат, в рамках которой проводится исследование, уточняется и детализируется понятие «мифология»; во втором блоке проводится ревизия устоявшихся взглядов на природу некоторых древнерусских божеств и обосновывается новое видение их места в мифологии восточных славян.
Бесков Андрей Анатольевич, кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарных исследований и научно-образовательных практик «Ratio» при НГПУ, член Нижегородского религиоведческого общества. Научные интересы: традиционная культура славян, сравнительная мифология, неоязычество.
Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
73
Режабек Е.Я. Становление мифологического сознания и его когнитивности // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 56–57; Он же. Мифомышление (когнитивный анализ). — М., 2003. С. 243.
74
Об интересе первобытных «дикарей-философов» к природе сновидений ещё в 1871 г. писал Э.Б. Тайлор (Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. — Смоленск, 2000. С. 144 и далее).
75
Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. 1. — СПб., 2003. С. 182 и далее.
76
Приходиться с сожалением констатировать, что термин «мифология» даже в этом, более распространённом и обыденном значении, и даже в специальной, научной литературе, не всегда используется по назначению. В качестве примера можно привести недавнюю монографию Н.А. Криничной (Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. — М., 2004). Даже из названия видно, что мифология и фольклор сливаются в нечто единое. Анализ текста книги демонстрирует это ещё более убедительно. Да, в книге рассматриваются персонажи севернорусского пандемониума — представители т. н. «низшей» мифологии, но мифов, или их реконструкции, мы там не находим. Это объясняется ориентацией автора книги на изучение таких фольклорных жанров как быличка, бывальщина, легенда, поверье. По сути, книга — это обширный свод русских народных суеверий позднейшей поры. Безусловно, грань между мифами и суевериями не всегда легко провести, но в подобной «мифологии» отсутствуют основные её черты — древность, универсальная этиологическая функция, позволяющая объяснить практически все аспекты мироздания, следы какой-либо вторичной творческой обработки мифологического материала носителями мифологической традиции. Такая «мифология» не является идеологией, это лишь конгломерат разнородных фольклорных мотивов, сюжетов, суеверий и предрассудков. На таком же основании мифологией можно назвать и современные нам представления о «бумбарашках», снежном человеке, НЛО, отнести сюда детские «страшилки» и разного рода байки о привидениях и т. п., в изобилии поставляемые нам «жёлтой прессой» и телевидением. Но такая расширительная трактовка понятия «мифология» для нас неприемлема, поскольку представляется аисторичной.
77
Конечно, религия тоже объясняет мир. Разница между религиозным и мифологическим объяснением заключается в том, что религия делает это уже на более высоком, абстрактном уровне, порой с помощью крайне изощрённых логических операций (вспомним средневековую схоластику), мало отличаясь в этом плане от философии и науки. Миф объясняет мир крайне непосредственно — с помощью простого описания, для чего и используются тропы. И если для мифологии описать (познав, таким образом) мир — это и есть главная задача, то суть религии — не в объяснении, а в преклонении перед нуминозным началом, то есть этиологическая функция здесь вторична и даже не всегда обязательна. Следует также подчеркнуть, что мифология не может произвести на свет чего-то такого, что не дано человеку в его непосредственном жизненном опыте. Религия (как и философия, и наука) — может.
78
Элиаде М. Священное и мирское. — М., 1994. С. 103.
79
Малахов В.С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. 1998 г. № 2. С.48.
80
Зачастую вместо понятия «коллективная идентичность» употребляют термин «социальная идентичность» (см., например: В.Н. Павленко. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии // Вопросы психологии. 2000. № 1. С. 135–141). В то же время, например, В.С. Малахов в указанной выше статье эти понятия разделяет. Мы тоже склонны их разделять, поэтому здесь употребляется формулировка «коллективная идентичность».
81
О «Влесовой книге» см., например: Творогов О.В. «Велесова книга» // Труды Отдела древнерусской литературы. — Л., 1990. Т. 43. С. 170–254; Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). — М., 1998. С. 314–326; Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио: подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. — М., 2001. С. 87 — 105. Список других работ, посвящённых критике этого «исторического источника», приведён в книге: Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычестваю — СПб., 2004. С. 116–117.
82
См., например: Савоскул С.С. Локальная идентичность современных россиян (опыт изучения на примере Переславля-Залесского) // Этнографическое обозрение. 2005. № 2. С. 59; Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. — М., 2003. С. 117.
83
Конечно, здесь нет необходимости подробно останавливаться на очень интересной и непростой теме борьбы примордиализма и конструктивизма в современной отечественной науке. Однако, в силу того что центральные вопросы этой борьбы всплыли и в этой работе, автору её приходится определиться со своим отношением к данной проблематике. Хорошее представление о современном состоянии проблемы и об острой полемике представителей этих противоборствующих направлений дают только что упомянутая книга В. А. Тишкова и не менее солидная по объёму монография М.Н. Губогло (Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. — М.: Наука, 2003), являющиеся плодами работы видных представителей конструктивизма и примордиализма соответственно. Не имея здесь возможности подробно останавливаться на аргументации сторон, скажем лишь, что нам более близка позиция конструктивизма. И если обращаться к данным древнерусской истории, её этноконфессиональным реалиям, вооружившись подобной этнологической терминологией, то разве не конструктивистом (в самом что ни на есть практическом смысле этого слова) был князь Владимир Святославич, крестивший Русь и навязавший её населению новую, христианскую идентичность?
84
Халид А. Современный характер идентичности: об «Археологии узбекской идентичности» А. Ильхамова // Этнографическое обозрение. 2005. № 1. С. 81–82.
85
При всей кажущейся новизне, эта мысль не столь уж нова и оригинальна. Достаточно вспомнить, что в Советском Союзе было принято считать: при социализме (то есть под воздействием государства, этот социализм построившего) сложилась новая национальная общность — советский народ. Парадоксально, но подобная трактовка этносоциальных процессов легко мирилась с официальным примордиализмом советской науки — теория расходилась с практикой. Советская нация именно конструировалась и это никого не смущало. Но советскими историками было сломано множество копий вокруг проблемы складывания древнерусской государственности. Суть норманнской проблемы сводилась к вопросу об этнической принадлежности основателей древнерусского государства. Вопрос стоял (и стоит до сих пор!) следующим образом — были наши предки достаточно организованы в этнополитическом плане для создания государства или нет. То есть несомненным представлялось то, что каждая нация, достигнув определённого уровня своего развития, должна построить своё государство. При этом как-то терялось из виду, что сама русская нация сложилась лишь через несколько веков после появления государства и что само понятие «наши предки» исключительно сложно наполнить каким-то конкретным этническим содержанием. Возможность того, что полулегендарный создатель древнерусского государства был скандинавом крайне болезненно воспринималась большинством советских историков и партийных функционеров, хотя то, что в числе создателей государства советского (построенного на основе прежней российской империи) и вождём советского народа (основой которого явился русский народ) был грузин, воспринималось как должное. В свете отмеченной противоречивости подходов к вопросам государства и нации в советское время, примечательным выглядит мнение М.Н. Губогло о том, что корни сегодняшнего конструктивизма уходят ещё в теоретическое наследие отечественных революционеров XIX в. — в частности, В.И. Засулич (Губогло М.Н. Указ. соч. С. 54).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: