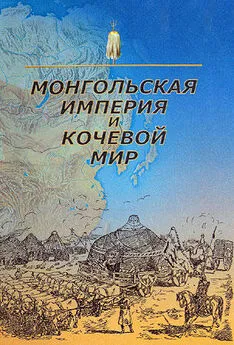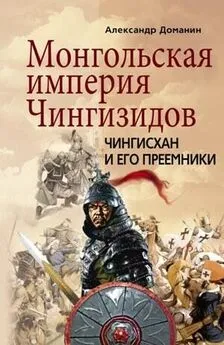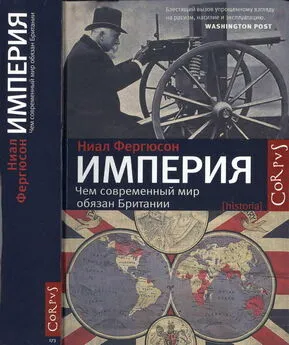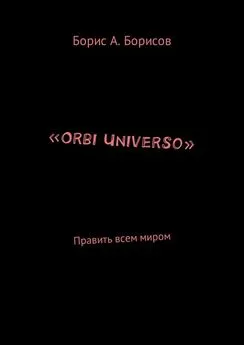Борис Базаров - Монгольская империя и кочевой мир
- Название:Монгольская империя и кочевой мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Бурятский научный центр СО РАН
- Год:2004
- Город:Улан-Удэ
- ISBN:5-7925-0066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Базаров - Монгольская империя и кочевой мир краткое содержание
Книга будет полезна не только специалистам в области истории, археологии и этнографии кочевого мира, но и более широкому кругу читателей, интересующихся историей кочевничества, монгольской истории и истории цивилизаций, в том числе преподавателям вузов, аспирантам, студентам.
Монгольская империя и кочевой мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Трудно сказать, когда прекратилось употребление «Ясы». Можно думать, что на падение ее значения сыграло свою роль сформирование права монгольской династии Юань. Одновременно можно предположить, что нормы «Ясы» в той или иной форме действовали у монголов после гибели династии Юань, в период с XIV до конца XVI в. В XV в. при усилении ойратов и даже кратковременном их господстве над монголами имело место более глубокое осознание известного этно-лингвистического единства, восприятие монголоязычного мира как единого целого. Этим целям послужило и принятие во второй половине XVI — начале XVII в. монголоязычным миром тибетского буддизма школы Гелугпа. Как учение Цзонхавы при помощи ойратов объединило Тибет в теократическое государство под лидерством далай-лам, так оно же — ламаизм заменил для раздробленных на отдельные ханства монголов и ойратов то связующее звено, которое придает обществу государственное единство. Религиозное единство монгольского мира олицетворяло центростремительные силы монгольско-ойратского общества в противовес экономической раздробленности, объясняемой формой хозяйствования, кочевым образом жизни и, как следствие этого, раздробленности политической, олицетворявшей силы центробежные. Идеология единства бытовала у Чингисидов, прямых потомков Чингис-хана и его урука, Чингисидов как новых потенциальных объединителей монголов.
Несмотря на взаимную вражду и войны, единство монгольского (монголо-ойратского) мира находило свое выражение в съездах (сеймах) высшей монгольской знати и обсуждения на них общих проблем монгольского мира, включая разработку общего для него законодательства. Это наличие общих законов, общего материального кодифицированного права превращало монгольско-ойратский мир в своеобразное, но государственное образование, конфедеративное государство, конфедерацию, лишенную единого хана-правителя, но управлявшуюся сеймом монголо-ойратских ханов разных достоинств. Тенденция на государственное развитие обеспечивалась исторической памятью (государство Чингис-хана), кровным родством и свойством значительной части монголо-ойратской знати, общей верой, общими законами, наконец, близостью языков (диалектов) и традиционно общим способом ведения хозяйственной деятельности. Хотя законы были писанными, они до наших дней полностью не дошли, включая и «Великое уложение 1640 г.» [Голстунский 1880; Гурлянд 1904; Жамцарано, Турунов 1920; Их цааз 1981].
Наиболее ранним памятником такого рода законов, случайно дошедших до наших дней, являются «Восемнадцать степных законов» . Их текст, написанный на бересте, был найден в 1970 г. Э.В. Шавкуновым в развалинах субургана у селения Харбух близ центра сомона Дашинчилэн Булганского аймака. Законы датируются периодом с 1603 по 1639 г.
Законы требовали от подданных соблюдать общие (общегосударственные) интересы. Если кто-то знал о нападении врага и не сообщил, не упредил других, он подлежал смертной казни: «Если человек, видевший, что идет большое войско, не объявит об этом, его казнить. Движимое и недвижимое имущество его конфисковать» [Насилов 2002, с. 40, 57].
Ханы и представители высшего сословия — нойоны (хунтайджи, тайджи и т. д.), блюдя общегосударственный интерес, должны были участвовать в съездах (сеймах) — «если человек ханского происхождения не приедет на съезд, взять с него сто лошадей и десять верблюдов» [Там же, с. 55]. Эти сеймы обладали законодательной властью, их решения были общеобязательными к исполнению. «Если человек ханского происхождения этот закон нарушит, с него следует взять тысячу лошадей, сто панцирей, сто верблюдов» [Там же, с. 53]. Хан не имел права покидать поле боя, тем более бежать с поля боя: «Если человек ханского происхождения во время сражения сбежит, взять с него тысячу лошадей, сто верблюдов и сто панцирей» [Там же, с. 54]. Ханы не должны были враждовать: «Если ханы обнажат друг перед другом холодное оружие, взять тысячу лошадей и сто верблюдов» [Там же]. «Если один нойон убьет другого, то его выгнать. Улус его разделить. Половину отдать (родственникам) убитого» [Там же, с. 49].
Выше мы упоминали о том, что участие в съездах тех, кому это было положено, являлось обязательным, опоздания на съезд и военные сборы было наказуемым: «Если кто опоздает на съезд больше, чем на трое суток, с того взять десять лошадей и одного верблюда. Если совсем не приедет, взять сто лошадей и десять верблюдов». «Если кто опоздает на военные сборы больше, чем на трое суток, взять с того личные доспехи нойона и оседланную лошадь» [Там же].
Страна обслуживалась единым судом. Судьи, «держащие закон», вызывали истцов и ответчиков. Неявка в суд после трех вызовов наказывалась штрафом лошадью. Столь же объединяющим фактором была единая государственная почтовая служба. Если кто не давал посланцу-элчи с княжеским поручением лошадь, то с того брали девяток (четыре головы крупного скота и пять голов мелкого) [Там же, c. 43]. «Если простолюдин не дает подводу, взять с того лошадь» [Там же, с. 45]. Если же «кто, назвавшись гонцом, обманным путем возьмет подводу и довольствие, взять (с того) три девятка» [Там же, c. 56]. Особенно срочными полагались «три дела», первым из которых являлось объявление войны (два других — ссора нойонов и болезнь высокопоставленного лица).
Халха — «Три халхаских аймака», имела единое административное деление: аймак, хошун, оток и нунтук.
Положение ламаизма на начало XVII в. определял «Монашеский закон» 1617 г. и «Религиозный закон» 20-х гг. XVII в. За преступления против представителей религии и порчу культовых сооружений предусматривались суровые наказания. Наказания были различны, но касались как простолюдинов, так и лиц ханского достоинства.
Таким образом, кочевое общество, в данном случае Халхи, выработало своеобразный тип государственности: власть, как во времена Чингис-хана, принадлежала ханскому роду. При реальной возможности четко и бескомпромиссно признать единого хана появилась своеобразная ханско-родовая демократия: ханы и нойонство, собираясь на съезды, образовывали своеобразный парламент, который решал дела Халхи и принимал законы, обязательные для исполнения во всех трех аймаках Халхи. Чуть позже в процессе разработки законов принимали участие и представители Джунгарии, ойратов. Законы и религия цементировали Халху. Они, как римское право в Западной Европе, придавали известное единство всему монголоязычному миру.
Монгольское право продолжало традицию композиций центрально-азиатского кочевого мира, оно выработало свои меры наказания — штрафы скотом (девяток, пяток — конь, бык и три барана). Штраф скотом выступал как самостоятельная мера наказания и не смешивался с конфискацией имущества как мерой наказания дополнительной. Там, где был закон, санкционированный не обычаем, а волей господствующего класса, каковым являлось нойонство, было и государство, какие бы своеобразные формы оно не принимало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: