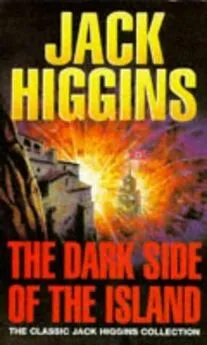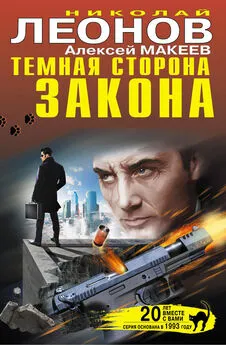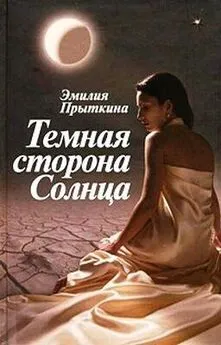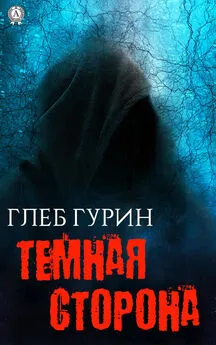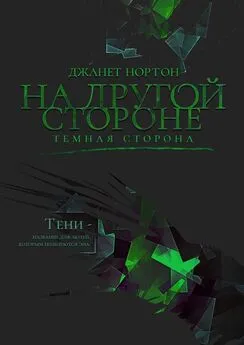Майкл Манн - Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток
- Название:Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Манн - Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток краткое содержание
Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Они хорошо усвоили горький опыт христианских меньшинств, стремящихся к реформам при поддержке христианских государств. На всех Балканах сербские, албанские, греческие и болгарские реформаторы не требовали ничего большего, чем региональная автономия, с чем охотно соглашалась Османская империя. « Ни одна часть нашей империи не пользовалась такой степенью свободы, как остров Крит, – писал Джемаль-паша в своих мемуарах. – Но разве мы смогли убедить киприотов отказаться от своей мечты воссоединиться с греками? » « Нет, – с горечью пишет он, – мы не смогли этого сделать ни в Румелии, которую захватили болгары, ни в Египте, оккупированном британцами. Науськанные европейскими государствами, эти обласканные нами народы добились независимости или были поглощены христианскими державами, истребив и изгнав при этом многих мусульман ».
Джемаль рассматривал такую политику как основополагающую тенденцию современности. Политическая децентрализация не спасла империю Габсбургов, как не спасла она и Османскую империю. Национализм, продолжал он, можно обуздать лишь твердой рукой, централизацией, «османским единством» под руководством титульного народа империи – турок. Армян можно было удержать лишь таким способом, – подытоживает он (Djemal Pasha, 1922: 250-251). Хотя турецкие правители знали, что большинство армян – верноподданные империи, их грызли сомнения. Было бы странно, если бы армянские и турецкие лидеры не пошли бы по балканскому пути. Все предпосылки для этого были. Чтобы сохранить статус-кво, Турции была нужна более эгалитарная консоциация, которую не мог обеспечить традиционный миллет. К сожалению, обе группы, воспитанные в духе Современности, отвернулись от консоциативной модели в пользу идеала органической нации-государства.
В XIX веке межнациональные конфликты обострились из-за борьбы за политическую демократию. Турецкие правители прибегли к политике «разделяй и властвуй», сталкивая религиозно-этнические группы в попытке сохранить единодержавие. Бывали случаи, когда они просили христианские общины оплатить издержки по подавлению восстаний турецких крестьян, а взамен подтверждали христианам их привилегии. В 1839 г. либерально настроенный великий визирь подготовил манифест, где провозглашалась идея гражданского равенства и прав человека. В 1856 г. было официально заявлено о равенстве мусульман и немусульман. Это нанесло удар по исламским законам и традициям и озлобило многих турок, поставив под сомнение их привилегии. Любая политика предпочтений могла вызвать раздражение той или иной этнической группы. Что касается христиан, то, по общему мнению, они не заслуживали никаких дополнительных прав, ибо и так имели явные экономические привилегии. В дальнейшем султаны умело манипулировали этими настроениями, чтобы выпустить пар из социального общественного котла и переложить вину за социально-экономические трудности на ненавистных христиан. Ту же политику проводили и русские цари, правда, козлом отпущения у них были евреи.
Турецкие султаны подняли градус национальной напряженности до погромов. Жертвами первого крупного погрома стала небольшая община христиан-маронитов. Это случилось в 1856-1860 гг. в Ливии и Сирии. Было убито 40 тысяч человек и лишь военное вмешательство Франции остановило эту мясорубку. Абдул-Хамид II, «красный» (то есть «кровавый») султан, правивший с 1876 по 1909 г., стремился к модернизации, опираясь на идеологию панисламизма. Он расширил сеть школ, где преподавание велось на стандартизированном оттоманском турецком языке (со значительными вкраплениями арабских и персидских элементов), укрепил армию. Он упразднил конституцию и гражданские права, создал карательные военные отряды, укомплектованные курдами и занимавшиеся подавлением внутренних мятежей. Все это позволило туркам и курдам присвоить себе чужую землю. В 70-е гг. XIX века армянские националисты начали отвечать насилием на насилие. В 1894 г. некоторые армянские общины отказались платить налоги как османскому правительству, так и местным курдским вождям. Народные волнения были жестоко подавлены. Огромное число армян (от 60 до 150 тысяч) было убиты. Показательным репрессиям подверглись города в Киликии и на Востоке, где армянская националистическая агитация проявила себя с особой силой. Причиной конфликта был земельный вопрос. Классовая ненависть к богатым армянам проявилась в невиданных грабежах, которыми сопровождался погром. Султан послал в зону конфликта карательные войска, якобы для того, чтобы развести враждующие стороны, но на самом деле курдские полки сами ввязались в драку. Как и евреи в императорской России, турецкие армяне служили предохранительным клапаном режима. Пролив достаточно крови, чтобы утолить народную ярость, султан снова перекрыл вентиль, запретив дальнейшие убийства. Впоследствии либеральные турки и армяне вспоминали о том погроме как об окончательном отчуждении армянской диаспоры от турецкой родины. Пути назад уже не было (Izzet Pasa, 1992; Miller & Miller, 1993: 61). Эти печальные события произошли задолго до того, как турецкий националисты вошли во власть. Тогда они были противниками таких методов. Как мы убедимся, армянские и турецкие националисты были союзниками. До поры до времени...
ПОДЪЕМ ТУРЕЦКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Когда империя находится в процессе распада, ее подтачивают изнутри народное недовольство и требования реформ. Турция прошла сквозь череду бунтов против налогов, голодных мятежей в больших городах, волнений в армии, когда солдаты сидели на голодном пайке. Люди, которые возглавили это движение, получили имя «младотурки». Этот термин используется и по сей день. Мы называем так молодых, решительных, искренних радикальных реформаторов. На ранней стадии реформаторского движения это обозначение было достаточно условно, потому что молодые адепты реформ считали себя османами, а не турками. «Османский либерализм» – вот, что владело их умами. Они жаждали модернизации по-европейски, распространения просвещения и других гражданских институций, частичного признания культурной автономии и (хотя это и сомнительно) политического равноправия этнических меньшинств.
Но либерализм страдает от трех недостатков. Во-первых, в нем заложен конфликт между индивидуальными и коллективными правами. Это противоречие либералы никак не могли разрешить, что ослабляло их сплоченность. Во-вторых, права этнических меньшинств и других групп они склонны были рассматривать на конфедеративном, а не на консоциативном уровне, иными словами, права меньшинств должны были быть реализованы внутри их автономий, а не всего государства. Это кредо всех либералов. Модернизирующиеся государства XIX – начала XX столетия косо смотрели на конфедерацию. Считалось, что сильные централизованные страны лучше смогут защитить свои геополитические интересы. В-третьих, либералы тяготели к реформам, которые им подсказывали западные державы, и многим казалось, что реформаторы играют на руку иностранным интервентам и выступают против султана как приспешники чужеземных врагов. В это охотно верилось еще и потому, что либерализм был светской, западной, антиисламской доктриной. На него тут же ополчились различные группировки: исламисты, придворные лоялисты, те же младотурки, но не либералы, а этатисты, выступавшие за централизованную национальную власть, враждебную западным влияниям. Раскол между фракциями обозначился, но четко не определился – и либералы и радикалы продолжали совместно выступать против консервативного двора. Разношерстные группировки во многом перекрещивались и вербовали адептов из одной социальной среды – высокообразованных мусульман из государственной бюрократии, системы образования и армии. На съезде младотурков в 1902 г. (он прошел за рубежом) разграничительные линии обозначились четче, но, тем не менее, либералы и радикалы продолжали совместную борьбу против придворных консерваторов. Обе фракции глубоко прониклись европейскими политическими идеями. В Европе либерализм и национализм были главенствующими течениями наряду с такими этатистскими доктринами, как французский социальный позитивизм и листианская экономика в Германии. Турецкие деятели переосмыслили эти достижения европейской политической философии применительно к опыту Османской империи, изведавшей на себе все прелести империализма либерального Запада. В результате национализм и этатизм в турецком варианте начали вытеснять либерализм. К этому движению примкнули государственные служащие, учителя, офицеры, по не торговцы и промышленники. События 1905 г. придали этому тренду более азиатский колорит. Азиатская страна, Япония, впервые нанесла сокрушительный удар по европейской державе, давнему врагу Турции – России. В Японии процветали идеи национализма и этатизма, а не либерализма. Восхитившись унижением, которое Европа претерпела от Азии, многие младотурки решили пойти тем же путем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: