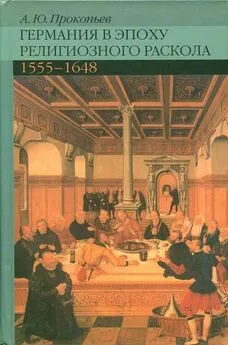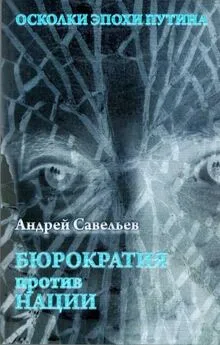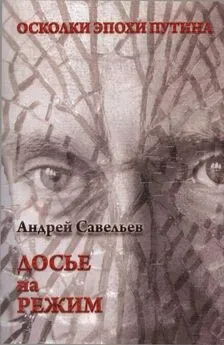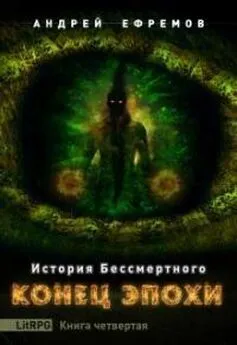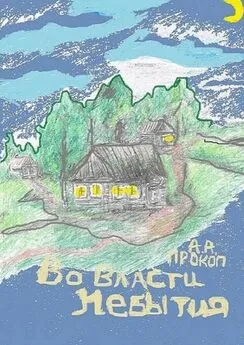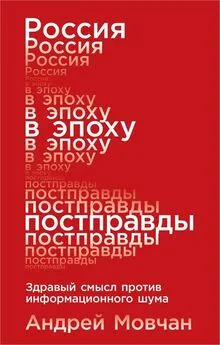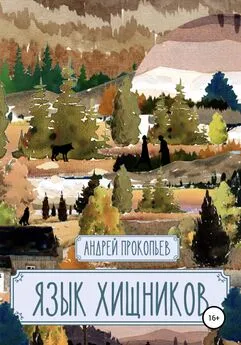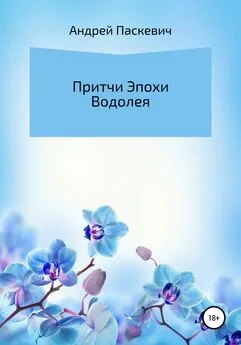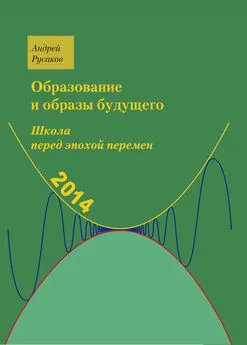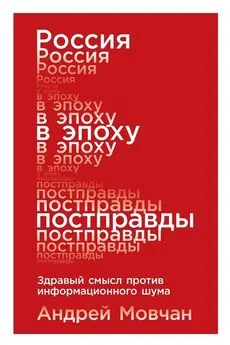Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Название:Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-288-04779-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 краткое содержание
Используя огромный фонд источников, автор создает масштабную панораму исторической эпохи. В центре внимания оказываются яркие представители отдельных сословий: императоры, имперские духовные и светские князья, низшее дворянство, горожане и крестьянство. Дается глубокий анализ формирования и развития сословного общества Германии под воздействием всеобъемлющих процессов конфессионализации, когда в условиях становления новых протестантских вероисповеданий, лютеранства и кальвинизма, укрепления обновленной католической церкви светская половина общества перестраивала свой привычный уклад жизни, одновременно влияя и на новые церковные институты.
Книга адресована специалистам и всем любителям немецкой и всеобщей истории и может служить пособием для студентов, избравших своей специальностью историю Германии и Европы.
Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В любом случае, однако, 1555 г. не может пройти незамеченным в поисках новой периодизации. Он рассматривается подавляющим большинством историков либо окончанием первого (начального) этапа конфессионализации, либо ярчайшим проявлением самого процесса формирования конфессий (X. Шиллинг). В Аугсбурге закончилась прелюдия и были узаконены основные структуры конфессионального общества, прежде всего лютеранская церковь. Э. В. Цееден в узком смысле считает 1555 г. началом конфессиональной эпохи как таковой, хотя и не началом процесса собственно конфессионализации. В его глазах значение 1555 г. для Германии было важнее, нежели для остальной Европы. М. Хекель, оперируя прежде всего историкоправовым инструментарием, выдвигает статьи имперского соглашения бесспорной вехой, символизировавшей наступление новой эпохи в развитии имперского права и соответственно-сословного общества. Главной характерной чертой здесь выступала легитимация двух ведущих вероисповеданий, окончательно восторжествовавшая в Вестфальском мире.
Как будто менее дискуссионной представляется нижняя граница. Историки указывают на Пиетизм и Просвещение (конец XVII — первая половина XVIII в.) как на дальнейшее развитие наметившихся в XVI в. движений. Многие процессы этого времени питались или, во всяком случае, имели предтечей предшествующую конфессионализацию.
«Духовная взаимосвязь между Просвещением и христианством, причем конфессионально сегментированным христианством, по большей части сохранилась, — заключает X. Клютинг. — Это особенно характеризует Просвещение в Германии, которое с самого начала приобрело особенный акцент благодаря конфессиональному расколу страны и не утратило известную специфику под влиянием конфессий и теологии» [11. S.373].
Конечно, Вестфальский мир несколько бледнеет под подобным углом зрения, в чем-то теряет свое эпохальное значение, особенно если ориентироваться на парадигму конфессионализации, предложенную X. Шиллингом. Но в дискуссии вокруг хронологии даже сторонники самого «протяженного» толкования конфессионального времени по-прежнему указывают на 1648 г. как на важный рубеж немецкой истории. Позади оказались самые напряженные и насыщенные общественными потрясениями годы. Позади была молодость конфессий, борьба за жизненное пространство. Впереди — во второй половине XVII в. и в XVIII в. — проглядывало, хотя и смутно, угасание предшествовавших тенденций и прогрессирующая секуляризация общества. Тридцатилетняя война завершает эпоху социальной интеграции конфессий, «милитантного» противостояния церквей и вместе с тем решает одну из важнейших проблем — правовую легитимацию протестантизма в рамках имперских структур. Если институционалисты и структуралисты ищут в 1648 г. политико-правовой рубеж, то сторонники «тотальной» истории (X. Шиллинг) — прежде всего широкий социокультурный.
Впрочем, спор вокруг периодизации кажется не столь жарким и, видимо, сами его участники готовы придавать ему скорее второстепенную роль. Принципиально важным представляется новый взгляд на эпоху. Модель конфессионализации, представленная в виде широкого социального движения, сближает и связывает воедино отдельные фазы, до последнего времени считавшиеся прямо противоположными — Реформацию и Контрреформацию. И евангелическое движение, и католическое возрождение выступали в немецких землях лишь разными сторонами одной тенденции, уходившей корнями в позднее средневековье. В год заключения Аугсбургского мира были заложены первые основы конфессионального общества, общества, которому суждено было приспособиться к сосуществованию нескольких вероисповеданий в своей среде. От того, как протекало это сосуществование и адаптация, зависело будущее Германии. И тем оправданнее выглядит интерес к десятилетиям после 1555 г. как к решающему отрезку: именно тогда определялось это будущее.
Марксистская немецкая историография после 1945 г. утвердилась преимущественно в восточных землях, вошедших в состав ГДР. Характерной чертой научных исследований, посвященных XVI и XVII вв., стало сочетание марксистского взгляда на исторический процесс и старой «малогерманской» традиции, возглашавшей главной перспективой государственного развития Германии после Крестьянской войны 1525 г. бранденбургско-прусскую модель. Причем последняя оправдывалась не только как продукт победы «феодальной реакции», но и как единственная альтернатива в хаосе немецкого мелкодержавия, осуществление которой в конце концов, хотя и на «реакционной» платформе, обеспечило национальное и государственное объединение Германии, что соответствовало известному постулату о прогрессивном значении национально-политической централизации, уже свершившейся в странах к западу от Рейна, и находило созвучие с жестким государственным централизмом советской эпохи. Подобный теоретический симбиоз не позволил восточнонемецким историкам вооружиться парадигмой «конфессионализации», ввести определение «конфессиональная эпоха» в качестве многопланового объекта исследований и вообще сколько-нибудь заметно увлечься второй половиной XVI в. в истории Германии. Главное внимание уделялось «неудавшейся буржуазной революции номер один», апогеем которой, по мнению историков-марксистов, была Крестьянская война 1525 г. Подавление крестьянского выступления превратило князей и дворянство в главных спасителей протестантской церкви, что во многом объясняло наметившийся позднее процесс т. н. «рефеодализации» в Германии. Под ней понимается укрепление позиций сословной элиты, высшего и низшего дворянства на базе торжествующей территориальной государственности в противовес все более ухудшавшемуся социальному положению крестьянства («второе издание крепостничества») и городской «буржуазии». Естественно, что подобные посылки заставляют видеть всю историю Империи от Реформации до Наполеоновских войн в довольно мрачных тонах: у Империи как государства нет будущего, ее социальные структуры застыли в своем развитии — в ожидании Наполеоновских войн и революций. Исходя из формационной теории, оставлявшей за рамками внимания социальную самоценность догмы, историки ГДР не были склонны вообще рассматривать процесс взаимовлияния и сращивания новых церковных структур со старыми общественными группами, фиксировать внимание на этапе относительной стабильности, знаменовавшей первые десятилетия после Аугсбургского мира, наконец, видеть временной отрезок с 1555 до 1618 г. не только лишь в призме противостояния католических и протестантских группировок «господствующего класса», но и самостоятельным, весьма насыщенным и противоречивым этапом немецкой истории. Итогом стало то, что за время существования ГДР не увидело свет ни одно сколько-нибудь крупное исследование, специально посвященное немецкой истории второй половины XVI в. и начала XVII в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: