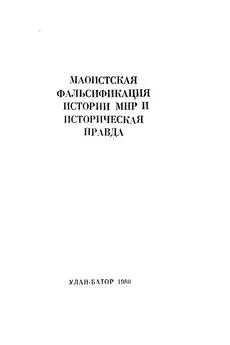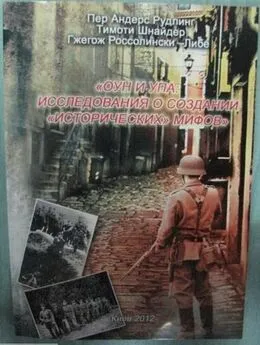Артём Федорчук - Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов
- Название:Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт Археологии Российской Академии наук
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:987-5-94375-110-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артём Федорчук - Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов краткое содержание
Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Молва идет (болтают люди всякое,
А все таки сдается, правда есть в молве),
Святой отец, что будто бы до крайности
Ты рад, когда, предложит продавец тебе.
Святителя останки. досточтимые;
Что будто ты наполнил все лари свои
И часто, открываешь — показать, друзьям.
Прокопия святого, руки (дюжину),
Феодора лодыжки... посчитать, так семь,
И Несторовых челюстей десятка два
И ровно, восемь черепов Георгия!
Но в случае с почитанием «святых мощей» принцип веры определяет святость. Вопросы подлинности не стоят столь остро, как в случае с останками национальных исторических героев.
В 2006 г. вся страна стала свидетелем рождения новой фальсификации — обретения останков символа «романовской народности» и антипольского патриотизма Ивана Сусанина. Приметой времени стало использование в «опознании» новейших комплексных методик, занимающих передовые позиции в современной исторической науке.
Общество испытало настоящий «культурный шок» после обнародования результатов археологического и судебно-криминалистического исследований.
Этот стресс усиливал целый ряд обстоятельств, и прежде всего устойчивое представление о том, что Сусанин завёл коварных поляков в болото (другая версия — в непроходимую чащу) и погиб там вместе с ними. Точнее, несколько раньше их. Вспоминаются строки Кондратия Рылеева:
«Куда ты ведёшь нас?., не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги: —
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.
<���…>
«Куда ты завёл нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. —
Убейте! замучьте! — моя здесь могила!(выделено нами. — Авт.)
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
<���…>
Эпический вариант этой трактовки представлен в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя» и массе литературно-поэтических опусов о костромском Горации [607].
Неудивительно, что чувство восторга смешивалось в умах наших сограждан с чувством недоумения: если герой сгинул вместе с поляками в непроходимой трясине, то откуда взялись останки?
Ситуация осложняется тем, что в наши дни далеко не все почитатели истории убеждены в реальности подвига Сусанина. Красивый и актуальный для первой половины XIX столетия миф об Иване Сусанине прожил, не привлекая внимания критиков, не более шести десятилетий [608]. В начале же 1862 г. (год миллениума призвания Рюрика, которое тогда трактовалось в качестве начала Российского государства) в февральском номере «Отечественных записок» появилась статья Н. И. Костомарова «Иван Сусанин».
Конечно, для не прошедших суровую школу постмодернизма современников Николая Ивановича его выводы стали жестоким ударом. Для нас, ныне живущих, заключения крамольного историка не кажутся чересчур радикальными: «Страдание Сусанина есть происшествие само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян… Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. <���…> Могло быть, однако, что в числе воров, напавших на Сусанина, были литовские люди, но уж никак тут не был какой-нибудь отряд, посланный с политической целью схватить или убить Михаила. <���…> Таким образом, в истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находился новоизбранный царь Михаил Федорович — это остается под сомнением...» [609]

Костомаровский рефрен «могло быть» стал своего рода эпиграфом к продолжающимся полтора столетия спорам. Дух сомнения витал над образом Сусанина и его подвигом всё это время. И было отчего. По сути, наш список источников ограничивается одной грамотой царя Михаила Фёдоровича 1619 г. со смутным описанием подвига Сусанина [610]да несколькими актами позднейших правителей, в которых явно видна тенденция к развитию сюжета в пользу потомков дочери костромского героя.
Любопытно, что даже знаменитое на весь свет отчество Ивана Сусанина — Осипович в этих источниках не упоминается. Нет и известий о его родителях. Большой честью для дворцового крестьянина (пусть и погибшего) было уже то, что царская грамота именовала его полным именем — Иван. Зять героя Собинин везде именуется по этикету XVII в. Богдашкой. В ту эпоху отчество вообще являлось прерогативой бояр и дворян. Крестьян официально называли уменьшительной формой имени и прозвищем. Выходит, если бы отца Сусанина звали Осипом (Иосифом), то тогда и его прозвище было бы Осипов, а не Сусанин. Сусанна — имя женское, это может указывать на то, что Сусанин рос без отца. Первое отчество (Иванович) в литературе Сусанину дал Н. А. Полевой в драме «Костромские леса» (1841). Отчество Осипович появилось лишь два десятилетия спустя в беллетристике, но оказалось вполне по душе и учёным мужам [611]. Забавно, что и в новейшей судебно-криминалистической экспертизе идентифицированы останки именно Ивана Осиповича Сусанина [612].
Всё это вместе взятое повлияло на формирование в обществе довольно туманного образа героя, который не то был, не то не был, но куда-то завёл каких-то поляков и прочую немчуру:
Заметает свежий ветер тропы.
Под ногами — взрыхленная твердь,
Позади — голодный сброд Европы.
Впереди — мучительство и смерть.
Эдакий фантом, пригодный разве что уж только для совсем кондовой псевдопатриотической пропаганды либо для анекдотов периода застоя и перестройки, смысл которых состоял в том, что Сусанин предлагал всему Политбюро указать нужную дорогу. Вместе с тем уже в 1970–80-е гг. стало ясно, что образ Сусанина, пусть даже в виде мифа (а мы сегодня скажем — «места памяти» [613]), стал индикатором общественно-политической платформы. Образ костромского Горация стал той интеллектуальной игрой с неожиданными трактовками, полюсами оценки «верю — не верю», которая наглядно обозначала ментальный раскол между официозным патриотизмом и патриотическим критицизмом. Образ критика в весьма забавном виде вошёл в патриотическую поэзию советской поры:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: