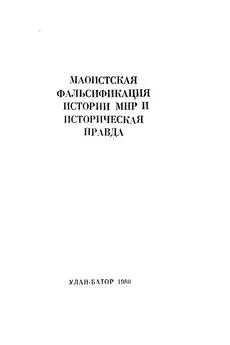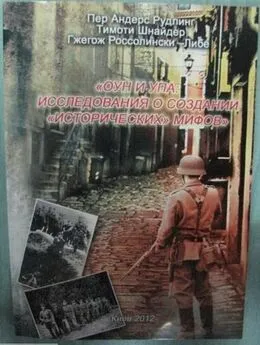Артём Федорчук - Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов
- Название:Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт Археологии Российской Академии наук
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:987-5-94375-110-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артём Федорчук - Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов краткое содержание
Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для иллюстрации этих тезисов ограничусь лишь одной цитатой — из того, упомянутого выше текста, который лёг в основу «биографии» Ю. Кази-Бека Ахметукова в ахметуковедении и который, несомненно, написан им самим:
«Автор произведений, подписанных псевдонимом «Юрий Кази-Бек», — черкес Ахмет-Бей-Булат, — потомок известного кавказского героя Ахмет-Бей-Булата, воспетого еще Лермонтовым [631], и сын когда-то враждебного России князя Ахмет-Ахмет-Бея, владыки воинственных шапсугов и других горских племен. Отец молодого горца… в 1863 г. переселился из Кубанской области в Турцию с тридцатью тысячами своего народа, абазехами, шапсугами, убы-хами и вообще с теми, кто пожелал следовать за ним… Ахмет-Бей-Булат и сестра его родились уже в Турции… У князя было до сорока жен, из которых мать нашего автора, урожденная княжна Фатима Али-Бек, была первая. Князь был начальником таборов баши-бузуков, составленных большей частью из черкесов, и принимал деятельное участие в последней русско-турецкой войне, во время которой и погиб под Ловчей (Ловеч. — О. Б.). Питая неприязнь к русским, он вместе с сыном некогда знаменитого Шамиля, «владыки гор» Магомой-Шамилем, приносил немало вреда русским войскам. Старший сын Ахмет-Ахмет-Бея, будучи шестнадцатилетним мальчиком, участвовал в войне, сражаясь рядом с отцом. После смерти последнего он был принят турецким султаном на службу и теперь уже занимает видное место при турецком дворе. После него следовала сестра Заюлиль-Хан, поражавшая всех своей редкой красотой, затем уже Ахмет-Бей-Булат. Когда семью постигло несчастье и князь был убит на войне, мать Ахмет-Бея в припадке отчаяния зарезалась, зарезав и дочь. Ей тогда было около тридцати лет, дочери — только двенадцать. И Ахмет-Бей-Булата постигла бы такая же участь, если бы он, к своему счастию, не находился в это время у знаменитого муллы Хаджи-Омара, брат которого, не менее знаменитый Кизильбич, наводил ужас на Кубань своими набегами… Хаджи-Омар был человек замечательный по своей жестокости, которая не имела границ, русских он ненавидел всей душой, и чтобы своего любимого ученика сделать точно таким же, он старался доказать ему, что его мать и сестра зарезались не сами, но что их убили русские. Мальчик, не знавший происшествия, верил ему и всей своей молодой душой ненавидел «врагов» своей родины. Только впоследствии, когда он был взят родственниками на Кавказ, он узнал истину…. Ученик боялся учителя более смерти, а тот читал в сердце мальчика, как в Коране, и питомец не в силах был от него скрыть ничего. Много интересных вещей рассказывал ученику мулла про их родину — Кавказ, яркими красками описывая прежнюю жизнь горцев. Сердце мальчика замирало то от радости, слыша про геройство джигитов, то от страданья, слыша о гибели их, смотря по содержанию рассказа… Теперь молодому писателю двадцать два года. Первым поощрителем его таланта явился московский цензор С.И.С… и его семейство…» [632]
Литературность этого рассказа вряд ли может вызвать сомнения. Здесь очевидна и претензия автора (представляющего себя героем повествования) на обладание славными предками-горцами, и демонстрация их «трагической вины» перед Россией (ошибочная эмиграция и враждебность русским), которую он теперь должен искупить, вновь став лояльным подданным Российской империи. В таком тексте целесообразно анализировать не его фактологическую составляющую, освобождая его от литературности, как это происходит в ахметуковедении. Напротив, здесь значимо то, как в нужном автору политическом русле преобразуются литературные и массовые стереотипы о Кавказе и его месте между Россией и Турцией, ибо это характеризует и автора, и ожидания читательской аудитории, на которую он ориентируется. Но это — предмет другого исследования.
Ю. Шамилоглу
«Джагфар тарихы»: как изобреталось булгарское самосознание
Во время моего визита в Казань в июне 1998 г. произошёл забавный случай. Я прибыл в Казань на конференцию, посвящённую источниковедению истории Золотой Орды. Последнее обстоятельство ясно характеризовало меня как специалиста в области татарской истории. Во время конференции ко мне подошли местные жители (не из числа учёных, принимавших участие в конференции), которые рассказали мне, ничего не подозревающему гостю, о неизвестной истории булгар Поволжья. Первым делом они заявили, что считают себя булгарами, а не татарами. Пожилой господин вообще большую часть времени называл себя членом клана Дуло. Утверждение это меня поразило. И к нему я ещё вернусь позже.
Самая волнующая подробность, которой он со мною поделился, заключалась в том, что существует свод источников булгарской истории, сохранённый на протяжении XX в., но впоследствии скрытый органами КГБ. По словам моего собеседника, эти материалы появились вновь лишь недавно и были неофициально опубликованы в трёхтомном издании под названием «Джагфар тарихы» (или «История Джагфара»). Написал их Бахши Иман в 1680 г. Один экземпляр этого сборника мне посчастливилось купить [633]. Другой источник, опубликованный под заголовком « Шан кызы дестани », остался мне недоступен [634]. Эти материалы, претендующие на роль подлинных исторических источников IX–XVII/XVIII вв., рассматриваются в роли первостепенного, скрытого от общественности исторического наследия булгарского народа, который сегодня, по мнению некоторых, получил ошибочные названия «казанские татары», «волжские татары» или просто «татары».
Эта совокупность источников рождает несколько важных вопросов, которые я и постараюсь кратко рассмотреть, а именно: кто такие казанские татары? кем были булгары? каково было самосознание волжских булгар в прошлом? является ли публикация этого сборника источников важной вехой в изучении истории волжских булгар и их потомков или же это сконструированная подделка? каково соотношение между современным самосознанием казанских татар и современной же булгарской самоидентификацией?
Как я неоднократно замечал, история казанских татар, современной мусульманско-тюркской народности средневолжского региона, обычно рассматривается в виде сложной и порой противоречивой цепи самосознания: волжские булгары, мусульмане, татары и казанские татары. Первым звеном в этой цепи казанские татары считают волжских булгар, средневековую тюркскую народность. Тем не менее тексты эпитафий волжских булгар указывают на более близкое сходство их языка с языком современных чувашей, а не казанских татар [635].
Второе звено в этой цепи — ислам. Из описания путешествий Ибн Фадлана явно следует, что волжские булгары приняли ислам к 922 г. В то время как все татары — мусульмане (исключением являются лишь татары-кряшены, то сеть татары, насильно обращённые в христианство после завоевания Казанского ханства русскими в 1552 г.), современные чуваши не имеют никаких доказательств того, что когда-либо в своей истории они были мусульманами. Современные татары считают, что имеют непрерывную исламскую традицию с X в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: