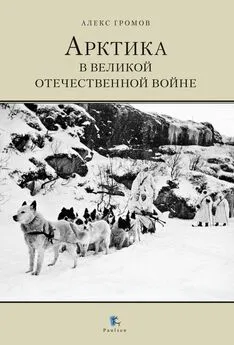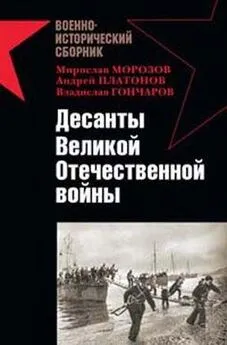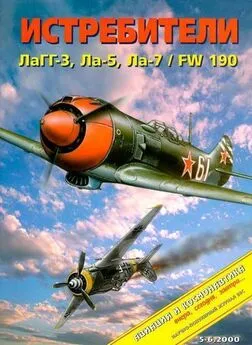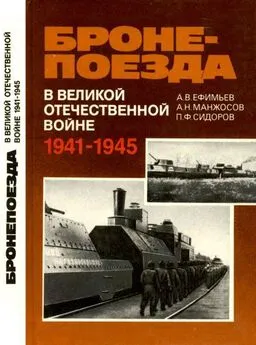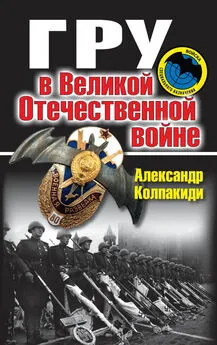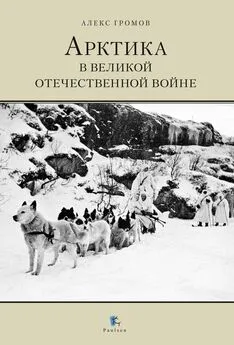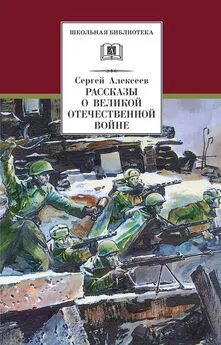Алекс Громов - Арктика в Великой Отечественной Войне
- Название:Арктика в Великой Отечественной Войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Паулсен
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алекс Громов - Арктика в Великой Отечественной Войне краткое содержание
Рецензент К. А. Залесский.
В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне автор Алекс Громов представляет свою новую книгу, посвященную войне в Арктике. Хотя всем интересующимся Арктикой хорошо известна выдающаяся роль наших солдат, краснофлотцев, местного населения и представителей коренных народов, обеспечивавших нужды фронта и тыла, эта страница истории все еще не так широко освещается в литературе. А между тем именно Арктика, Северный морской путь сделали возможной поставку столь необходимой Стране Советов помощи союзников, именно там проходили знаменитые полярные конвои.
Автор книги описывает события в Заполярье 1941–1945 годов, подкрепляя рассказ документами и фотографиями.
Арктика в Великой Отечественной Войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сама обстановка боя на Севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам — так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно — не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов (180°), а попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель! При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный разноцветный ад!» [208] Каверин В. А. Два капитана. — М.: Правда, 1976.
Вениамин Каверин знал о подвигах и жизни полярных летчиков не понаслышке — писатель был в военном Архангельске. Когда началась Великая Отечественная война, Каверин прервал работу над романом и, став военным корреспондентом «Известий», попросил командование отправить его на Северный фронт, где он мог продолжить собирать материал для книги.
Вот так, просто и даже буднично, главный герой каверинского романа описывает свои действия на войне. «В июле я ходил еще с бомбами на Киркенес — и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на „свободную охоту“ — так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и „ушла налево“. Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно… Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль — в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал» [209] Там же.
.
Кто же был прототипом Сани Григорьева? Отвечая на этот вопрос, писатель говорил, что одним из прототипов послужил летчик-истребитель старший лейтенант С. Я. Клебанов, погибший в 1943 году. Самуил Яковлевич Клебанов был связан с Арктикой с 1935 года, работал летчиком. В Ленинграде он занимался в планерной секции, в которой Чкалов был инструктором (в книге летчик Ч. — кумир Сани Григорьева).
В своих воспоминаниях Каверин не раз писал, что Клебанов стал его помощником-«инструктором» в изучении особенностей летного дела в арктических условиях. В своем сборнике «Литератор» Каверин рассказывает о встречах с М. Горьким и другими известными писателями, историками литературы, режиссерами; его дневники и переписка охватывают время от 1920-х до 1980-х годов. Напечатано в сборнике и письмо Каверина летчику Клебанову, датированное 14 марта 1942 года: «Я читал в „Известиях“ о том, что Вы летали бомбить Германию, и почувствовал настоящую гордость за то, что изобразил хоть небольшую частицу Вашей жизни в „Двух капитанах“. От всей души поздравляю Вас с орденами — уже двумя — так быстро. Я не сомневаюсь в том, что Вы — настоящий человек и мужчина…». Как отмечал Каверин, сочиняя второй том романа, он нашел воспоминания однополчан Клебанова, полные уважения.
В главе «Победа» писатель от имени Сани Григорьева описывает схватку с вражески кораблем. «Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал „парить“, как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара…
Еще во время первого захода стрелок закричал:
— Полна кабина дыму!
…Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много — гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:
— Будем держаться, Саня?
Еще бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетливую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло, и если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю.
…Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще десять минут — и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море.
— Держимся, Саня?
Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, — до берега было не меньше чем тридцать.
Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал — когда же, наконец, скатится в прошлое еще один мучительный камень-минута! Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.
— Дотянем, Саня?
— Конечно, дотянем!
И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны, и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро: „Один наш самолет не вернулся на базу“?» [210] Каверин В. А., 1976.
.
Глава «За тех, кто в море» рассказывает о героях-подводниках, с которыми встречался главный герой романа. Знаменитый подводник Ф. — командир подводной лодки М-172 («Малютка») Герой Советского Союза Израиль Ильич Фисанович. С ним писатель общался в Полярном во время войны.
В романе при помощи подводника, «знаменитого Ф.», летчик Саня Григорьев потопил четвертый немецкий транспорт. «Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на „малютках“, таков, что я не согласился бы променять один поход „малютки“ на десять самых опасных вылетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что в свою очередь между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно обязательно должен быть какой-то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда-то дали друг другу…» [211] Там же.
.
Интервал:
Закладка: