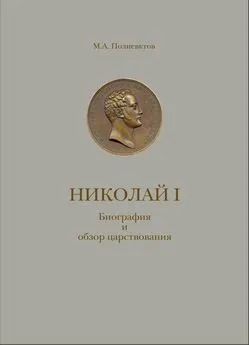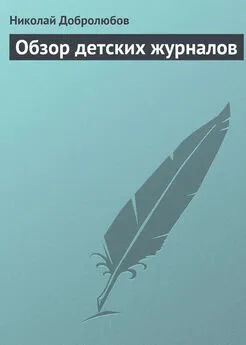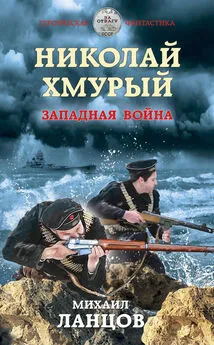Михаил Полиевктов - Николай I. Биография и обзор царствования с приложением
- Название:Николай I. Биография и обзор царствования с приложением
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Православное издательство “Сатисъˮ ООО
- Год:2003
- Город:СПб.
- ISBN:5-7373-0240-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Полиевктов - Николай I. Биография и обзор царствования с приложением краткое содержание
Николай I. Биография и обзор царствования с приложением - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К исходу 1850 г. наступило общее успокоение в Европе. В связи с этим и положение на Востоке, казалось, становилось сравнительно менее натянутым. В начале 1851 г. русские войска оставили Дунайские княжества.
Результатом революции 1848 г. и вызванных ею осложнений было, как в свое время и после революции 1830 г., более тесное сближение Англии и Франции и обособление их политики от политики остальных великих держав. Меньше единодушия замечалось на этот раз на востоке Европы. Австрия недоверчиво следила за политикой России в Турции и была несколько обеспокоена той решительностью, с какой император Николай вмешивался в европейские дела, хотя бы и в интересах самой империи Габсбургов. Пережившая Ольмюц Пруссия затаила обиду и за Шлезвиг, и за неудачу своей германской политики. Что касается непосредственных отношений императора Николая к Англии и Франции, то эти отношения обрисовываются уже отчасти на только что отмеченных событиях. Подводя итог всему, что имело место за последние два года на Востоке, император Николай не мог не замечать, как в Турции русское влияние окончательно уступало место английскому и как турецкие министры все больше и больше подпадали под опеку английского посла. Англо-русский антагонизм, так определенно сказавшийся в вопросе о Дунайских княжествах и о польских эмигрантах, остро давал себя чувствовать в целом ряде отдельных второстепенных случаев. Так было, например, когда император Николай в начале 1850 года вступился за Грецию, от которой Англия требовала возмещения убытков, понесенных гибралтарским жителем Начифико во время беспорядков в Афинах в 1847 году. Этот антагонизм продолжал сказываться и на Кавказском побережье Черного моря, и в среднеазиатских владениях, а в самый последний год николаевского царствования и на Дальнем Востоке – после появления русских поселений на Амуре и на Камчатке.
Дипломатические сношения с Францией на первых порах после Февральской революции были прерваны. Энергичное подавление генералом Кавеньяком Июльского восстания вызвало одобрение со стороны императора Николая, что и было передано генералу канцлером Нессельроде через остававшегося в Париже Н.Д. Киселева. Присланный в сентябре 1848 г. в Петербург французским временным правительством генерал Лефло встретил самый благосклонный прием, но дело о возобновлении дипломатических сношений затянулось вследствие избрания президентом республики принца Людовика-Наполеона Бонапарта: император Николай желал видеть на президентском посту ген. Кавеньяка. Тем не менее вскоре после этого французская республика была официально признана русским правительством, и 14 мая 1849 года Киселев возобновил свои полномочия. Последующая политика президента примирила с ним императора Николая, и переворот 2 декабря 1851 г., как усиливающий власть президента, был встречен им сочувственно. Все время, однако, император Николай относился к принцу Людовику-Наполеону лишь как к главе французского правительства, не считал его равным по положению с коронованными государями и, одобряя все его шаги к усилению своей власти, прямо заявлял, что всякая попытка со стороны президента провозгласить себя наследственным монархом была бы большой неосторожностью. Присвоенный 2 декабря 1852 г. президентом титул «Наполеона III, императора французов», как восстанавливающий династию низложенного Александром I Бонапарта, не был признан императором Николаем. По соглашению с Австрией и Пруссией была выработана формула, признававшая новое правительство без обычного между коронованными особами обращения к императору французов со словами «monsieur mon frere». Соответствующее письмо Государя Императора носило обращение «Tres serenissime, tres excellant et tres puissant Prince, notre tres cher ami Napoleon, Empereur des Francais» и подпись «Votre bon ami Nicolas». Берлинский и Венский дворы в это время признали Наполеона с титулом «III», изменив своему первоначальному решению. Такое обращение Русского Императора очень задело Наполеона III и содействовало обострению возникшего еще в 1850 г. вопроса о Святых местах, а вся антиреволюционная политика Николая после 1848 г., в отдельных ее проявлениях, подготовила обстановку восточного конфликта 1853–1856 гг.
Европейские события 1848 г. дали повод к целому ряду исключительных мероприятий, имевших целью усиление надзора за состоянием умов в русском обществе и борьбу с новыми политическими и социальными идеями. Эти мероприятия касались прежде всего цензуры. Уже 12 марта 1848 г. министру народного просвещения было повелено: предупредить цензоров через их начальство, что за всякое дурное направление статей в журналах цензура подвергнется строгой ответственности; предписать Главному управлению теперь же строго взыскивать с цензоров за подобные упущения; не пропускать в печати намеков на строгость цензуры и пояснить, что запрещение в России некоторых иностранных книг заключает в себе запрещение и говорить о них в печати, а тем более печатать из них отрывки. Еще 27 февраля, по мысли светлейшего князя А.С. Меншикова, а главным образом – статс-секретаря барона М.А. Корфа, был учрежден под председательством первого из этих лиц особый комитет, в который вошли д.т. сов. Дм. Пет. Бутурлин, ген.-ад. гр. А.Г. Строганов 2-й, статс-секретари Дегай и Корф, а несколько позднее начальник штаба жандармов генерал Дубельт – для негласного надзора как за самой цензурой, так и непосредственно за печатью. 11 марта на заседании этого комитета редакторам всех петербургских журналов было объявлено, что «за напечатание либеральных и коммунистических статей они подвергнутся личному взысканию, независимо от ответственности цензуры». 2 апреля того же года этот комитет был превращен в постоянное учреждение, сосредоточившее в себе фактическое заведывание цензурой. Комитет, по выражению Николая, должен был стать «им самим» в деле цензуры. Министерство народного просвещения с этого времени лишь исполняло повеления, сообщаемые ему или через «Комитет 2 апреля», или через III отделение Собственной Е.И.В. Канцелярии. Целый ряд тем, охватывающий собой почти все общественные вопросы, отдельными распоряжениями 1848–1854 гг. был окончательно изъят из обсуждения на страницах печати.
Одновременно с этим был предпринят ряд ограничительных и запретительных мер по отношению к университетам, а также к среднему образованию. На первых порах эти меры носили частный характер. 19 марта 1848 г. последовал циркуляр министра народного просвещения гр. Уварова, в котором обращалось внимание на европейские события. В 1849 г. комплект студентов в университетах был ограничен 300 чел. и последовало распоряжение о том, чтобы все литографированные лекции профессоров за их подписями доставлялись в Публичную библиотеку. Сам Уваров не сочувствовал реакционным крайностям, видел в них разрушение своей собственной системы и делал что мог, в пределах своей программы, чтобы спасти университеты от надвигавшейся на них грозы, в которой даже такие консерваторы, как Никитенко, усматривали как бы возвращение к временам Рунича и Магницкого. Лично осмотрев осенью 1848 г. Московский университет, в своем докладе об этом осмотре он дал весьма благоприятный для университета отзыв и указывал те меры, какие были предприняты им для укрепления дисциплины. Совету университета было поручено, между прочим, пересмотреть программы политических и юридических наук с целью их сокращения. Ввиду появившихся слухов о предстоящем полном закрытии университетов, в мартовской книжке «Современника» за 1849 г. была помещена инспирированная Уваровым статья проф. И.И. Давыдова «О назначении русских университетов». За эту статью Уваров получил Высочайший выговор и 20 октября того же года вышел в отставку. На его место был назначен его товарищ кн. Ширинский-Шихматов, перед этим представивший записку об университетском преподавании, в которой требовалось, «чтобы впредь все положения и науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием». При Ширинском-Шихматове назначение ректоров всех университетов, кроме Дерптского, было поручено министру. В следующем году министром народного просвещения были составлены особые инструкции для ректоров и деканов с «исключительной целью усилить надзор за университетским преподаванием». Было усилено наблюдение за духом ученых диссертаций. С осеннего семестра 1849 г. было приостановлено преподавание государственного права, а с 1850 г. упразднено преподавание философии; преподавание же логики и психологии поручено профессорам богословия. Заграничные командировки и приглашения иностранных ученых на русские кафедры были прекращены. Окончившие университет косвенными мерами привлекались, по возможности, на государственную службу в департаментах и министерствах и удерживались от «скользкого поприща» журналистики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: