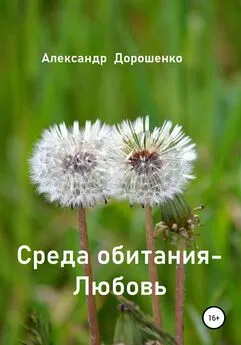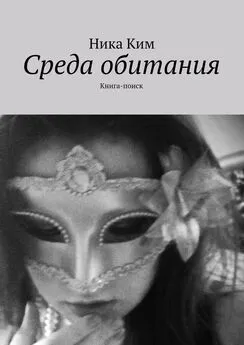Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]
- Название:Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РАНХиГС (Дело)
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7749-0867-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] краткое содержание
Основываясь на анализе многочисленных источников, впервые в мировой японистике автор прослеживает эволюцию взглядов японцев на природу на протяжении всей истории Японии. В фокусе книги – представления о размере и качестве среды обитания, модели природы, созданные в поэзии и садах. Важнейшее внимание уделяется также рассмотрению природы как средства самоидентифицации японцев.
Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и культурой Японии.
Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По приведенному выше тексту хорошо видно, что Митинага (или же, скорее, автор «Эйга моногатари») воспринял знакомые ему описания рая весьма буквально. Поэтому он сделал акцент на самоцветной роскоши рая и устроил сад самым богатым образом, что было не под силу другим японцам. Пышная церемония освящения храма, на которой присутствовало множество гостей, включая самого императора, безусловно, свидетельствует и о желании Митинага продемонстрировать свои представительские возможности. Это, однако, не умаляет его религиозности – дневник Митинага хорошо отражает его набожность, а скончался он не где-нибудь, а непосредственно в молельне Амиды храма Хоссёдзи.
Описание сада в «Эйга моногатари» в общих чертах соответствует описанию рая, приводимому в «Одзё ёсю» (известно, что сам Митинага был хорошо знаком с этим произведением). Однако между изложением Гэнсина и «Эйга моногатари» имеется и существенное расхождение. Согласно Гэнсину и сутрам, в райском месте отсутствуют времена года. В «Одзё ёсю» прямо утверждается: «Холод и жара там уравновешены, там нет ни весны, ни осени, ни зимы, ни лета» [312]. Хотя в саду Митинага отсутствуют «живые» и склонные к сезонным переменам растения (возможно, что и павлины с попугаями тоже были муляжами), но в том, как они исполнены (или описаны), все равно имеются указания на четыре времени года. Три из них поименованы прямо, о весне же мы можем судить по готовым осыпаться цветам. Таким образом, японское сознание не смогло примириться с раем, в котором отсутствуют времена года, – концепт, прочно вошедший в японскую культуру и характеризующий «правильный» природный цикл и правильное государственно-общественное устройство.
Таким образом, в контексте амидаистских верований сад становится моделью рая. Сооружение земной копии рая считается делом буддоугодным. Предполагается, что результирующей такой строительной деятельности станет вознесение хозяина сада в рай, а сам сад при жизни хозяина является своеобразной площадкой для подготовки к такому переселению. Следует подчеркнуть при этом, что сам амидаистский сад сохраняют конструктивную преемственность по отношению к саду даосскому: в нем сохраняются и пруд с островом, и острова-камни, торчащие из воды, и мостик, и ручьи. В своих главных чертах он сохраняет прежнюю структуру, «завещанную» ему геомантией и прошлой традицией. Однако возведенный на берегу пруда посвященный Амиде храм заставляет сад разговаривать на ином языке. И тогда остров в пруду, который раньше интерпретировался как Хорай, осмысляется как «райский остров». При этом в амидаистском пруду могут помещаться несколько островов, и ничто не мешает называть их островами журавля и черепахи – даосских символов долголетия и мудрости. В даосском саду вода отражает Небо, а в амидаистском – храм с помещенной в нем статуей будды Амиды. Конечно, Амида тоже пребывает на небе, но все-таки это небо расположено где-то сбоку – на западе. Поэтому храм, посвященный Амиде, всегда возводился на западном берегу пруда.
Старший сын Митинага Фудзивара Ёримити устроил возле реки Удзи собственный амидаистский храм с прудом-садом. Это произошло в 1052 г., т. е. в год наступления конца Закона Будды. Храм получил название Бёдоин, он представляет собой переделку светской загородной резиденции. Эта резиденция ранее не вызывала у современников никаких буддийских ассоциаций. Однако после ее переделки в храм осмысление окружающей природной среды меняется радикальным образом. Хроника «Фусо рякки», похвалив местный пейзаж привычным и совершенно небуддийским образом («вода-камни хороши, ветры-потоки превосходны»), далее уверенно сообщает: мост через реку Удзи, по которому попадают в Бёдоин, представляет собой как бы переправу, которая ведет из этого мира в мир райский [313].
Какие же конструктивные новшества позволили воспринимать Бёдоин в качестве райского места? Ведь архитектура храмового комплекса является изводом светской резиденции в стиле синдэн-дзукури. Однако храм ориентирован другим образом: если в светской архитектуре усадебные строения расположены по оси север-юг, то храмовые постройки ориентированы по оси запад-восток, и этого оказывается вполне достаточно, чтобы изменить прочтение всего «жилого сада». Кроме того, пространство между светским строением и прудом должно иметь площадку для проведения различных церемоний. Однако перед Бёдоин такая площадка перестала существовать по следующим основаниям. Во-первых, буддийские моления проводились внутри самого храма (при этом руку статуи и руку верующего связывали для верности красным шнуром, сплетенным из лотосовых волокон). Во-вторых, в каноническом изображении рая будды Амиды строения вплотную примыкают к кромке берега [314].
По садам Ёсисигэ Ясутанэ и Фудзивара Митинага хорошо видно, что они придерживались мнения о необходимости представить в своем саду полный годовой цикл, несмотря на то что в «настоящем» раю смены сезонов не наблюдается. Для хэйанского времени можно обнаружить немало свидетельств о садах, которые призваны продемонстрировать сезонную изменчивость или же сезонную полноту. И авторы, описывающие их, основное внимание уделяют не камню, а растениям.
Сезонная изменчивость природно-растительного мира воспринимается двояким образом. С одной стороны, люди находят в изменчивости красоту. Как сказал Ёсида Канэёси (Кэнко-хоси), «времена года сменяют друг друга и придают всему очарование» [315]. С другой стороны, сезонная изменчивость свидетельствует о непостоянстве этого мира, что вызывает сетования по этому поводу. Однако эти непостоянство и недовольство (постоянное недовольство?) все-таки подлежат преодолению. Оно достигается за счет садово-литературно-религиозных конструктов, в которых четыре времени года представлены одномоментно и «одноместно», и такое место предлагается считать земным раем. Усиленный акцент, делаемый на сезонной полноте годового цикла, является характернейшей особенностью всей японской культуры.
В «Эйга моногатари» автор сравнивает сад Каяноин (принадлежал роду Фудзивара) с дворцом морского царя-дракона (Кайрюо), из которого можно одновременно наблюдать четыре сада, в каждом из которых царствует свое время года [316].
Упоминания о царе-драконе действительно имеются в сутрах. Однако там ничего не сообщается о садах четырех времен года. Похоже, что конструирование такого идеального места во владениях царя-дракона явилось продуктом местного (японского) творчества. Рискнем предположить, что идея одномоментного лицезрения всех четырех времен года оказалась настолько близка японскому сознанию, что оно с готовностью подправило исходный вариант.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/1064223/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani.webp)

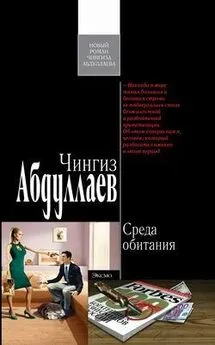
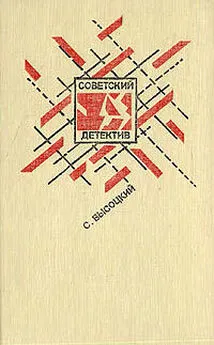
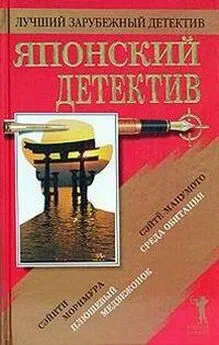

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/1149036/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s.webp)