Жан-Клод Болонь - История безбрачия и холостяков
- Название:История безбрачия и холостяков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-4448-0531-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Клод Болонь - История безбрачия и холостяков краткое содержание
Известный бельгийский историк Жан-Клод Болонь рассказывает об эволюции понятия безбрачия и отношения к нему, знакомит читателей с образами и типажами западных холостяков, существовавшими с древних времен до наших дней.
История безбрачия и холостяков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В средневековых текстах словом «юноша» (jeune) обозначается рыцарь, прошедший посвящение, но еще не женившийся. А иногда так же обозначается и женатый, пока у него не родится первый ребенок и он не станет «главой дома и продолжателем рода». [165] Duby, 1973, p. 214. Об этом абзаце см. статью «Les „jeunes“ dans la société aristocratique», pp. 213–225.
Таким образом, представление о молодости связано не с возрастом и даже не с холостой жизнью, но с отсутствием детей. «Юноши», «холостяки» редко жили поодиночке. Несколько друзей объединялись в компании, чаще всего их всех в один и тот же день посвящали в рыцари. Один из них, тот, кто пользовался наибольшим уважением, или сын сеньора, посвятившего их в рыцари, становился «капитаном», и они пускались на поиски приключений. Для них начиналась веселая жизнь: траты без счета, всяческие удовольствия, извинительные в силу возраста и отсутствия какого-либо наставника… Они участвовали в турнирах, полученные трофеи тут же пускались в оборот, а деньги тратились на пирушки. Старшие сыновья в семье со временем возвращались домой и вступали во владение наследством, младшим доставалась лишь незначительная, а то и убыточная часть наследства.
Единственным шансом преуспеть в жизни была храбрость. Они не отказывались ни от какого приключения — военного или любовного — в надежде, что их заметит могущественный и богатый сеньор или богатая вдова. В романах XII века таковы рыцари короля Артура, бросающие вызов в доказательство своего мужества, или же отдельные герои, ищущие приключений, такие как Гавейн, Ивейн, Эрек, Ланселот. Они летят на помощь прекрасной кастелянше на выданье, надеясь, что их храбрость не останется без награды. Если они поступают на службу к королю или сеньору, то надеются, что рвение их однажды будет вознаграждено и они получат какой-нибудь фьеф, владелец которого скончался, и руку молодой вдовы впридачу. А если они женятся, как Эрек или Ивейн, то считается, что они утратили смелость и отвагу, воплощением которой были до брака. Когда Ивейн женится на госпоже де Ландюк и становится сеньором, король Артур и весь его двор в беспокойстве отправляются на поиски пропавшего рыцаря. Насмешки преследуют Эрека, вступившего в брак с прекрасной Энидой, и, чтобы доказать, что он по-прежнему полон смелости, Эрек снова пускается в путь.
Так обстоит дело у самых храбрых и самых удачливых. А как у других? Компании молодых неженатых людей, оторванных от семьи, небезопасны для замужних дам и незамужних девушек (других статусов нет и не может быть у добродетельных женщин). Вряд ли можно запретить этим юношам вступать в связь с женщиной. Не потому ли в итальянских городах позднего Средневековья, где в браки вступали поздно, а девушки жили под неусыпной опекой, так расцвел гомосексуализм, позволяющий «хотя бы создать видимость собственной частной жизни»? [166] Charles de La Roncière, в: Ariès/Duby, 1985, t. II, p. 297.
Что же касается эмоциональной стороны жизни таких холостяков, то она быстро нашла выход в весьма своеобразном явлении — «возвышенной любви» (fin’amor), которую исследователи XIX века назвали «куртуазной любовью». Она естественно вытекала из обстоятельств жизни, из невозможности оскорбить честь девственницы или скомпрометировать замужнюю даму.
Жорж Дюби видит в куртуазной любви форму испытания, своеобразную игру, где, как и на турнире, молодой человек рискует жизнью. В обществе, где оскорбленный муж имел право сам решать, каким образом наказать за адюльтер, спеть о любви к замужней женщине означало подвергнуть себя опасности. «В определенной социальной среде возможности предаться любви были очень ограничены для молодых людей, и, не имея возможности жениться, они завидовали тем, кто женат, кто каждый вечер ложится в постель с женщиной». [167] См. Georges Duby, «А propos de l’amour que l'on dit courtoise», Mâle Moyen Âge , pp. 74–82 (цит. p. 78); см. также Duby, 1999, ch. XI, «littérature»; 1973, pp. 222–223; Monique Santucci, «Amour, mariage et transgression dans le Chevalier au lion ou Il faut transgresser pour progresser», Amour, mariage et transgression au Moyen Âge , Göppingen, Kümmerle Vlg, 1984, pp. 161–171.
Однако в этой фрустрации ковался их характер, они учились сдерживать инстинкты и направлять энергию в другое русло, на служение даме или сеньору. И то и другое требовало преданности и верности, вассальной или любовной отваги в военных или любовных испытаниях. И самоотречения, если требовалось оказаться от дамы ради служения сеньору.
Так протекала жизнь любовная. Что же касается сексуальной жизни, то она очень тщательно отделялась от любовной, во всяком случае в тех моделях, которые предлагались молодым людям. Во взаимоотношениях с женщинами ниже по положению — девицами легкого поведения, крестьянками, служанками или горничными — излишняя щепетильность не требовалась. Большой сеньор Гийом Аквитанский в своей пасторели о встрече с пастушкой явно показывает нам, что, даже если рыцарь предан чистой любви, она не охватывает всех сторон его поведения. Разве может знатная дама считать себя оскорбленной связью рыцаря с крестьянкой или служанкой?
Было и нечто среднее между любовными интрижками и преданностью недоступной даме. Если сеньор устраивает турнир как некое подобие военного сражения для молодых людей, его жена устраивает для них такое же подобие любовной жизни, организуя соответствующие развлечения. Когда Ивейн принимает в своем замке в Броселиандском лесу короля Артура и его свиту, он, вернее его молодая жена, госпожа де Ландюк, представляет гостям 90 молодых девушек. Все устремляются к ним, целуются, обнимаются, разговаривают — «и это меньшее из того, что каждый получил». Кретьен де Труа не видит здесь ничего предосудительного: хозяйка выполняет долг гостеприимства.
Понятие вытеснения, разумеется, не исчерпывает ни феномена куртуазной любви, ни расцветшей в ту же эпоху мистики. Однако Жорж Дюби показал нам, что сознание монаха и рыцаря во многом сходно, опирается на одни и те же факторы общественной жизни эпохи. Во времена, когда сакрализация брака, с одной стороны, и рост населения — с другой привели к введению жестких ограничений на возможность вступления в брак, и рыцарь, и монах оказались изгоями матримониальной жизни. «Одни с оружием в руках замещают половое влечение битвами, риском и теми смягченными формами, какие половое влечение принимает в куртуазной любви. Другие, монахи и клирики, ожесточенно набрасываются на все, что есть плотского и радостного в браке, и изнуряют себя в исступленном служении Деве Марии». [168] Duby, 1999, p. 158.
Однако как бы долго ни длилось вынужденное безбрачие молодых рыцарей, предполагается, что рано или поздно оно кончится. Целью каждого мужчины, если он не рукоположен в священники, остается произведение на свет детей; к ним перейдет его имя и благодаря им не иссякнет память о его роде. Однако средневековые законы не обладают с этой точки зрения той гибкостью, что была присуща законам античным. Римское право позволяло передавать наследство приемным детям, устанавливая некое подобие отцовства для холостяков. В Средние века такая возможность почти не используется, хотя формально она не исключена даже для клириков. [169] Юристы классической эпохи считали, что от усыновления отказались в IX–X веках, и это мнение продолжает существовать. См. Gutton, 1993, passim , особенно pp. 13 sq. Франк Руми (Franck Roumy, L’Adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle , Paris, LGDJ, 1998), напротив, показал, что усыновление постоянно подразумевается в средневековых текстах. На практике, как кажется, оно встречается редко, но возможны другие виды искусственного родства (pp. 189, 198–214). Об усыновлении, разрешенном холостым и клирикам, см. pp. 138, 156.
Что же касается незаконнорожденных, то «терпимость по отношению к ним, закрепленная в германских законах, исчезла». [170] Olivier-Martin, 1948, § 199, p. 268.
Передача наследства возможна только в браке. Старший сын не может уклониться от своих обязанностей, а в случае его преждевременной кончины — младший. Рамиреса Монаха, короля Арагона, отозвали из монастыря после того, как два его брата умерли бездетными. Он правил три года, с 1134 по 1137 год, женился, произвел на свет наследницу и вернулся к монашеству, к обету безбрачия и бедности.
Интервал:
Закладка:
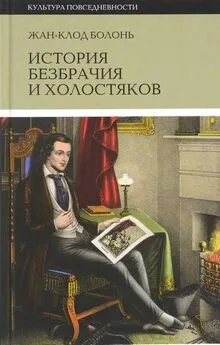


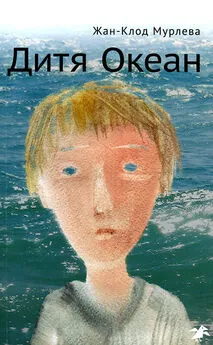
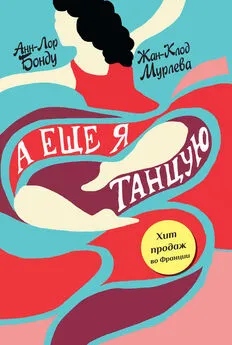
![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)
