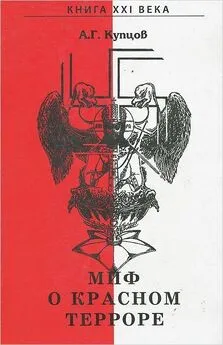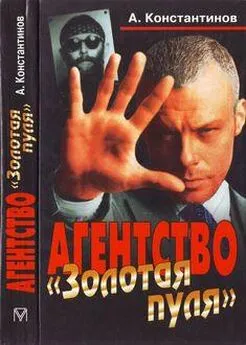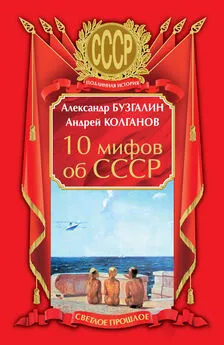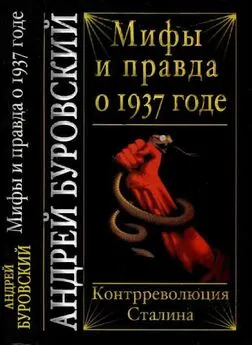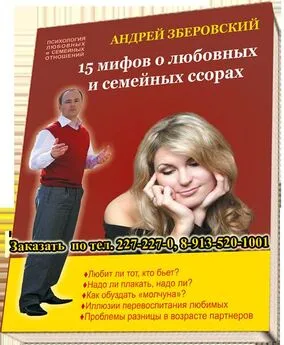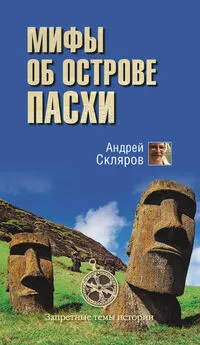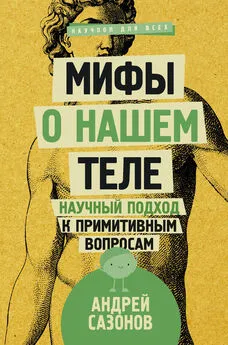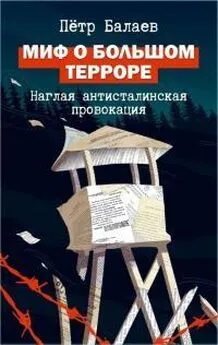Андрей Купцов - Миф о красном терроре
- Название:Миф о красном терроре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крафт+
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93675-148-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Купцов - Миф о красном терроре краткое содержание
По его гипотезе, чтобы весь народ поддержал переворот, в общенародное сознание был гениально точно заброшен великий эпос «о кровавом прошлом СССР, который был “Империей зла”». В этот эпос входили не менее великие мифы лжи: миф о том, что Россия до 1917 г. была богатой, сильной, индустриальной державой, миф о гонении церкви, миф о красном терроре, диктатуре Сталина, архипелаге ГУЛАГи неэффективности советской экономики.
Все, следуя линейной закономерности возможного развития «великой» до 1917 г. страны, считали, что Россия могла быть лидером планеты, но динамичный путь империи остановил жидобольшевистский эксперимент. Мифы уничтожили систему…
Миф о красном терроре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зачем такие сложности? Главное — накопление почвенной влаги. Осенние дожди и снег дадут гарантированную базу для жизнеобеспечения. Результат — урожайность часто в два раза больше урожая яровых культур. В той же Центральной России яровой оптимум — 10–12 ц/га, а по озимым — 18–22 ц/га. Есть, правда, одно исключение: твердые, «макаронные» сорта пшеницы — только яровые. Эти малоурожайные элитные сорта любят сильное солнце и суховатый рацион. Твердые сорта в среднем составляют 10 % от общего посева (СССР 1987 г.). Это Поволжье, Западная Сибирь, Северный Казахстан. Казалось бы, чего ж не сеять озимые? А вот тут мы и утыкаемся рогом в наш дурацкий российский неуправляемый и непрогнозируемый климат.
Снег для озимых — дар Божий. Существует достаточно известная статистика отношения толщины снежного покрова и жизнестойкости зерна, даже при температуре за минус 30. Но Россия — это вам не Германия. Это там скомандовали «Зима!», и пошел снег (север Германии). Про зиму юга Германии нет смысла и говорить — виноградники до горизонта. Кстати, когда вы переезжаете Карпаты, то начинается территория (до Бискайского залива), где земля не промерзает.
Безснежное начало зимы в России — не редкость. К этому морозец — и капут.
Есть снег, лег вовремя, его много — красота! Да? Ан пупырь! Оттепель где-нибудь в январе. И опять морозец — алес-капут.
Все нормально (тьфу-тьфу), а весна вялая, не солнечная — все тает медленно, побеги вымокают, подгнивают, а тут еще «утреннич-ки» — и гросс-капут.
А то еще пошло солнышко жарить аж с конца февраля, небо без облачков (городским дурням радость), резко усилился транспира-ционный процесс. Проще говоря, испарилась необходимая влага. А «болдоха» наяривает, и уже алес-гросс-капут.
Куда там «гусарской рулетке». Пальнул в висок и отмучился болезный, а как жить, если зависишь ты сам и семья от «объективной реальности»?!
Это только городской дурень может написать, а городская дуреха спеть: «У природы нет плохой погоды». Эта погода может весь район опустить сначала в голод, а потом всех мужиков в батрачество и долги, а бабам — желтый билет и на панель. Это еще если город большой рядом, а так жри лебеду до нового урожая, если вообще доживёшь.
Представляете, каким надо обладать характером, чтобы тысячу лет жить там, где жить должно быть запрещено законом!
Озимые — это «рулетка», но выигрыш по урожайности безспор-ный. Ведь когда мы иногда встречаем в книгах (радио, TV, СМИ) народные приметы, то нам, горожанам, это как экзотика старины, вроде сохи и лаптей. А когда-то эти приметы помогали выживать и хоть как-то планировать свою жизнь. Угадали дед Егор и бабка Агрипина погоду — все с хлебом.
За всю историю галактики только с 1917 г. до 1991–1993 гг., когда над Россией, как поёт великий акын БГ: «Взошёл ледоруб да пила», а с небес стали пикировать на Русь, источая гной и чуму, лютые Афанасьевы, Волкогоновы, Сахаровы и Новодворские, люди жили в системе упорядоченного счастья. Можно было рисковать сеять озимые, так как все работали на один амбар, и все равно большая климатическая катастрофа (тот же голод 1921–1922 гг.) обрекала на смерть миллионы…
И вот тут есть один момент в истории России, который почему-то проморгали так называемые «историки».
Пшеница разделила людей на два типа поведенческого стереотипа. Рисковые, безшабашные, азартные люди, которые сеяли озимые, это они породили кулачно-кабацкую традицию ухарства и отчаянно надрывную беззаботность. Они шли в будущее, которое было фатально непредсказуемым… Люди риска, с готовностью проиграть. «Или грудь в крестах, или голова в кустах». «Однова раза живем» или более «оптимистичное»: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», «Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец». Все это сравнимо с японским «Сегодня жить — умереть завтра».
Яровые сеяли степенные, терпеливые и, в общем-то, нетребовательные люди, для которых примитивная зерновая бурда была наследственным привычным хлёбовом.
Риск и по яровым был фатален, но все же лето — это лето, здесь контрастных, убийственных перепадов погоды все же меньше. Ну а уж пришла беда — отворяй ворота. Хотя можно кое-что и исправить. Скажем, дали весной морозы, пропали всходы, можно запахать и тут же посеять рожь или ячмень, у них сроки созревания меньше. А с озимыми не переиграешь.
(Заранее поясняю, что подряд, из года в год, зерно не сеяли. Земле давали отдых. Существует многопольная система, где, например [один из вариантов], после 2 лет зерновое поле засевают вико-овся-ной смесью. Эти растения перегоняют азот из атмосферы в землю. Есть идея чистых «паров» с запашными культурами, но это отдельная сложная тема, а моя задача — рассказать о базовых понятиях в земледелии.)
Но вот что интересно, озимые все равно сеяли.
Иногда эта была лично оговоренная кооперация: собиралась группа крестьян и выделяла клин для озимых. Но часто это был один камикадзе. Я уже приводил таблицы посева яровых и озимых, обратите внимание на то, как резко отличается сбор зерновых в Царстве Польском. Потому что Полыпа-то за Карпатами. Вернемся к теме.
Отставание России в своем развитии от стран Европы было предопределено базовой необеспеченностью землей, природной урожайностью и климатом.
Вывод очень прост: какую угодно реформу можно заранее выкинуть на свалку истории, если вы или не поднимете урожайность, или не увеличите зерновой клин, а для этого нужна была только одна реформа — революция 1917 г.
В силу морозных зим в России в основном сеяли, как и сейчас, яровую пшеницу, и средний урожай составлял 51,5 пудов с десятины. То есть с российского клина в 0,433 десятины соберешь 22,29 пудов (минус 17 пудов = 5,29 пудов) по цене хорошо если 0,6 руб. за 1 пуд, и это всё, что тебе дано на год, а по сути на всю жизнь…
Единственным (относительно) ориентиром в климатическом отношении могла бы быть Канада. Но там на одного жителя приходится в среднем 3,4124 га сельскохозяйственных земель, и выше параллели «нашей» Полтавы пшеницу никто сеять не будет.
Без революции 1917 г. развалилась бы Россия, потому что озимая пшеница «убежала» на юг.
Результатом неравномерного жизнеобеспечения зерновыми культурами был начавшийся экономический сепаратизм, что повлекло за собою резкое развитие южнорусских регионов и обнищание Центральной России.
На 490 заводах России, на которых было занято 25,5 тыс. чел., производилось 392 тыс. плугов, 30 тыс. рядовых сеялок, 61,4 тыс. жаток, 22 тыс. молотилок. И всей продукции на 38,2 млн рублей. Из этого: 105 заводов с числом занятых в 10 тыс. рабочих приходилось на Новороссию. Эти заводы производили 182,8 тыс. плугов, 22 тыс. рядовых сеялок, 7,6 тыс. молотилок и другой продукции на 21 млн рублей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: