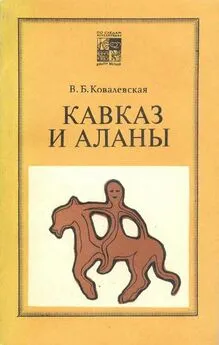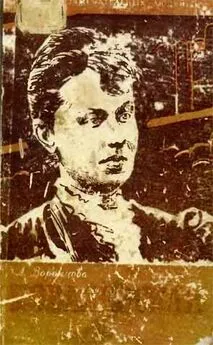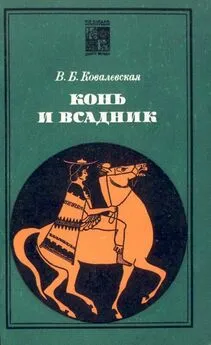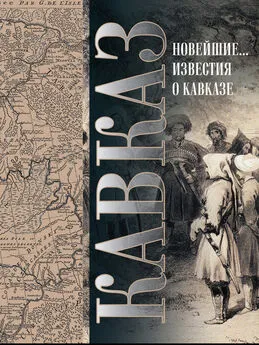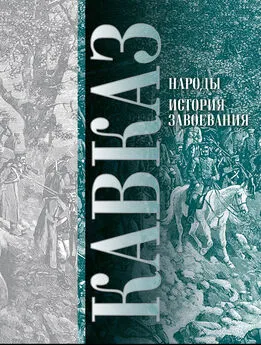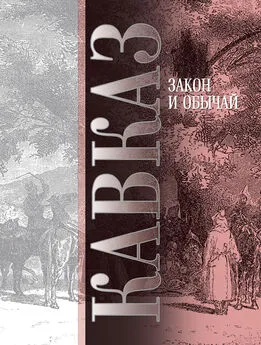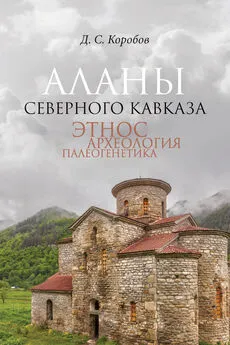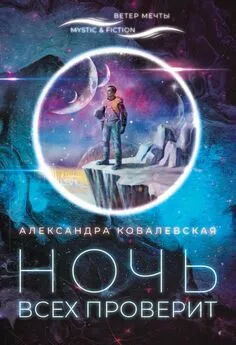Вера Ковалевская - Кавказ и аланы
- Название:Кавказ и аланы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Ковалевская - Кавказ и аланы краткое содержание
Кавказ и аланы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, сарматской эпохе на Северном Кавказе повезло больше, чем другим: к ее изучению обращалось большее число исследователей, придерживавшихся зачастую различных точек зрения и опирающихся на материалы разных районов Северного Кавказа (от Кубани до Дагестана). Столкновение же взглядов (устное — на ежегодных кавказских симпозиумах или письменное — на страницах журналов) всегда продуктивно, даже в том случае, если оппоненты резко расходятся в толковании проблемы.
На исторической арене Северного Кавказа сарматы, подобно скифам, появились как опасные и неукротимые враги. Недаром в быту адыгских племен сохранилась поговорка «Ты не черт и не шармат, откуда же ты взялся? [Ногмов, 1947, с. 24]; показательно и слово цармарти в грузинском языке, что значит «язычник» [Гаглойти, 1966, с. 70], а в языках вейнахской группы словом ц/аьрмат называют уродливого и страшного, чужого человека [Виноградов, 1963, с. 151]. Картину взаимоотношений сармат с местными племенами мы можем дополнить, привлекая сведения Л. Мровели, повествующего о браке между сестрой царя Фарнаваза, объединившего Грузию в III в. до н. э., и «овским царем» (овсы грузинских источников в разные исторические периоды соответствуют последовательно сарматам, аланам и осетинам); сам Фарнаваз был женат на «деве из рода Кавкаса (племени) дурдзуков» [Мровели, 1979, с. 30], которых локализуют на северных склонах Кавказского хребта, на территории нынешней Чечено-Ингушетии.
На протяжении царствования Фарнаваза овсы, леки и дурдзуки оставались его надежными союзниками.
Этот союз сохранился и при его сыне Саурмаге и лишь при внуке Мнрване I был временно нарушен восстанием дурдзуков. «Тогда царь Мирван созвал всех эриставов картлийских, собрал многочисленное войско — конных и пеших… и подступил к вратам [неприятеля], жестокий, как джик (так в древнегрузинских источниках назывались зихи — адыгские племена, жившие на Черноморском побережье Кавказа, косоги русских летописей. — В. К .), бесстрашный, словно тигр, и с львиным рыком на устах. Разразилась меж ними жестокая битва, и, словно скалу, не рассекал Мирвана меч дурдзуков: был он тверд и незыблем, как столп. Битва длилась меж ними долго, и с обеих сторон пало множество [людей]. Однако дурдзуки были осилены и обращены в бегство» [Мровели, 1979, с. 31].
Сопоставляя данные греческих, римских н древнегрузинских авторов, мы получаем представление об этнической карте Северного Кавказа последних веков I тысячелетия до н. э.
Страбон в XI книге «Географии» подробно повествует о Кавказе; после рассказа о самых высоких частях Кавказа, о горцах, которые живут на вершинах гор и в лесных долинах, он переходит к описанию северных предгорий — области, прилегающей к «равнине си раков» (одного из важнейших сарматских племен); «Здесь (имеются в виду предгорья, — В. К .) живут также некие троглодиты, из-за холодов обитающие в пещерах; но даже у них много ячменного хлеба. За троглодитами следуют хамекиты и так называемые полифаги и селения псадиков, которые еще в состоянии заниматься земледелием… Далее следуют уже кочевники, живущие между Меотидой и Каспийским морем, именно набианы и панксаны, а также племена «нраков и аерсов. Эти аорсы и сираки являются, видимо, изгнанниками племен, живущих выше, а аорсы обитают севернее сираков» (Strab. XI, V, 7–8).
На протяжении многих десятилетий не прекращаются ожесточенные споры о том, как локализовать сарматские племена аорсов и сираков, как датировать время их появления на Северном Кавказе, как определить характер их взаимоотношений с соседями, какие признаки выделять в качестве этнокультурных показателей [Смирнов, 1954; Виноградов, 1963; Абрамова, 1968, с. 129]. Для нас существенно, что и древние авторы, и современные археологи единодушны в признании наличия в степях большого монолита сарматских племен. Заслуживают внимания и сведения Плиния Старшего о том, что в тылу города Питиунта, «в кавказских городах, живет сарматский народ епагерриты, а за ними савроматы» (Плиний. Естественная история. VI, 15); по мнению Ю. С. Гаглойти, И. С. Каменецкого и Е. П. Алексеевой, локализовать их следует в верхнем течении реки Кубани [Алексеева, 1971, с. 70].
Особенно важны данные по локализации тех племен, которые заселяли северные предгорья и горы Кавказа. Речь идет, во-первых, о троглодитах, то есть жителях пещер (не имеются ли здесь в виду дома, частично углубленные в землю, — вспомним углубленные жилища в Приэльбрусье, на Эшкаконе, рассмотренные выше?), которые, по мнению некоторых исследователей, локализуются в Чечено-Ингушетии, рядом с хамекитами [Виноградов, 1963], исадиками («содиями» Плиния). (Естественная история. VI. 29); и «исондами» Птолемея (V, 8, 17 — см. [Виноградов, 1963, с. 157]).
Далее на восток, уже на территории современного Дагестана, находились леки древнегрузинских источников. Если согласиться с предложенной локализацией хамекитов и исадиков, то троглодиты, очевидно, в действительности находились западнее (и, видимо, значительно) — можно ожидать, что их ареал включал горные районы от Осетии до верхней Кубани; никаких других племенных названий, которые можно было бы связать с этой территорией, в нашем распоряжении нет, а между тем, коль скоро Страбон начинал свое описание с района современного Сухуми, то названые им племена и должны были находиться в верховьях Кубани и далее на восток.
Памятники III–I вв. до н. э. в горах немногочисленны и, как правило, представлены погребениями, большая часть которых вскрыта еще в прошлом веке и лишена должной документации; многие детали, ускользнувшие от внимания непосредственных производителей работ, восстановить невозможно. А при небольшом числе погребальных комплексов, архаичности инвентаря, плохо поддающегося датированию, при разнообразии погребального обряда, в частности погребальных сооружений, черпать в этом материале основания для уточнения этнической или хронологической интерпретации можно только при введении дробного кода описания этих погребений.
Остановимся лишь на том, как проявляется в них преемственность от кобанских памятников VIII–IV вв. до н. э., не предлагая, однако, на этой базе этногенетических построений. Так, продолжает бытовать традиция погребений в каменных ящиках (большинство) или в грунтовых могилах (мало), иногда с частичным использованием камня. Преобладают одиночные захоронения, правда, появляются и коллективные. Продолжают встречаться скорченные погребения, как в предыдущую эпоху, но все больший удельный вес приобретают вытянутые (82 % в Кабардино-Балкарии, по данным Б. М. Керефова). Ориентировка неустойчивая, с преобладанием широтной.
Вещевой материал демонстрирует в ряде категорий прямую преемственность от более ранних форм кобанской культуры. Это касается бронзовых дуговидных фибул, бронзовых литых браслетов с концами в виде змеиных головок [Абрамова, 1974, с. 5], умбоновидных бляшек-пуговиц [Керефов, 1975, с. 8] и многих других украшений. Оружие и конское снаряжение гораздо тоньше реагирует на все то новое, что появилось в военном деле сарматской поры и отражало процессы «сарматизации соседнего несарматскога населения, то есть принятие им сарматского костюма, вооружения, многих сторон погребального обряда и т. д.» [Смирнов, 1954, с. 195].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: