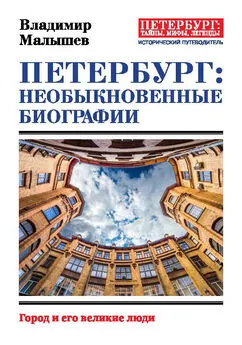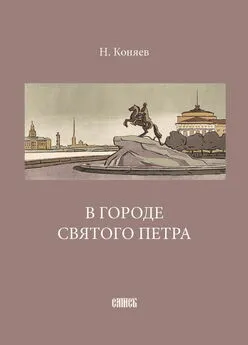Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]
- Название:Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Страта
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-6041463-1-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди] краткое содержание
Император Павел I, бескомпромиссный в своей приверженности закону, и «железный» государь Николай I; ученый и инженер Павел Петрович Мельников, певица Анастасия Вяльцева и герой Русско-японской войны Василий Бискупский, поэт Николай Рубцов, композитор Валерий Гаврилин, исторический романист Валентин Пикуль… – об этих талантливых и энергичных русских людях, деяния которых настолько велики, что уже и не ощущаются как деятельность отдельного человека, рассказывает книга. Очень рано, гораздо раньше многих своих сверстников нашли они свой путь и, не сворачивая, пошли по нему еще при жизни достигнув всенародного признания.
Они были совершенно разными, но все они были петербуржцами, и судьбы их в чем-то неуловимо схожи.
Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Да, ничего не поделаешь, – говорил он. – Надо уступать, но я утешаюсь тем, что неурядица должна скоро исчезнуть, ошибки можно впоследствии исправить и потери со временем даже вознаградятся, но дороги нужны обширной России, она покроется сетью – это главное, и каждая верста построенной железной дороги есть благо».
С этими словами, буквально выжитый из превратившегося в Клондайк министерства, и ушел Павел Петрович Мельников в отставку. Заботы академика, генерала, отставного министра целиком переключились в эти годы на семью. Очень хорошо устроил Павел Петрович свою племянницу. Она вышла замуж за наследника А. С. Пушкина и сделалась хозяйкой Михайловского. Это она с мужем и стояла, можно сказать, у истоков Михайловского музея-заповедника.
Так что и это семейное дело сделал Павел Петрович так же хорошо и очень задушевно, как делал все в своей насыщенной трудами на благо России жизни.
Удивительно достойно доживал академик генерал-лейтенант Мельников свои последние годы в Любани, возле построенной им железнодорожной магистрали.
Особенности петербургского романса

Из раннего детства остался в памяти сон.
Сумрачно, хмуро было вокруг, но вот сквозь эту муть пробился солнечный луч, и она пошла по нему, как идут по тропинке, и вошла в заросший розами благоухающий сад. Что было дальше, Настя не запомнила, ее разбудили.
Ей было тогда восемь лет. Они жили в алтуховской избушке, что стояла на окраине леса. Отца уже не было тогда с ними, его задавило в лесу упавшим деревом, и мать, Мария Тихоновна Вяльцева, оставшаяся с тремя детьми на руках, выбивалась из сил, чтобы прокормить их.
Сон приснился незадолго до того, как мать решила перебраться в Киев. Легенда утверждает, что денег на поезд не было, и Вяльцевы отправились в путь на самодельном плоте. В Киеве у восьмилетней Насти началась уже трудовая жизнь.
Три года она проработала ученицей в вышивальной мастерской, а потом ее отдали в горничные.
Анастасию Вяльцеву называют русской Золушкой, и в этом нет натяжки. В двенадцать лет будущая звезда российской эстрады убирала номера в гостинице на Крещатике. Здесь – девочка пела во время работы – ее и услышала певица Серафима Александровна Вельская, приехавшая в Киев на гастроли.
Серафима Александровна отнеслась к встрече с очаровательной юной горничной, обладавшей к тому же несомненным музыкальным дарованием, как к сюжету оперетты, в которой с таким успехом играла. Поддавшись порыву, она отвела девочку в труппу Иосифа Яковлевича Сетова, державшего в Киеве антрепризу.
Правда, и по протекции Серафимы Александровны Вельской юное дарование взяли для начала лишь в подтанцовку, оценив не голос, а фигуру Насти. И, как и должно быть в оперетте, карьера будущей звезды эстрады началась с провала. Во время первого же выступления она перепутала движения и была безжалостно освистана публикой.
Тем не менее неудача не сломила юную артистку.
«Я дебютировала на сцене тринадцати лет, – вспоминала она потом, – и этот день считаю самым счастливым днем не только моего детства, но и всей моей жизни».
Впрочем, и дальше сценический путь Вяльцевой долго еще не походил на тропинку в благоухающем розами саду. В девятнадцать лет она вступила в Киевское товарищество опереточных артистов под управление А. Здановича-Борейко, а через два года стала хористкой в опереточной труппе московского театра «Аквариум».
«Когда, по опереточному канону, хористки выстраивались дугой по обеим сторонам авансцены, – вспоминал театральный критик Александр Рафаилович Кугель, – то направо на первом, а иногда на втором месте стояла очень худая молодая девушка с прелестной улыбкой. Она была новенькая и действительно выделялась среди старой гвардии оперетки. Случалось, что она исполняла партии в два-три слова и пела „вот идет графиня“ или „как ужасно, как прекрасно“. Никому в голову не могло прийти, что эта худенькая девушка с прелестной улыбкой станет в своем роде всероссийской знаменитостью [17] Знаменитый силач Иван Поддубный говорил: «В России есть три знаменитости: я. Горький и Вяльцева».
…»
И все-таки случилось то, что и должно происходить в соответствии с сюжетом оперетты. Во время гастролей в Санкт-Петербурге на сцене петербургского Малого театра С. А. Пальма к Анастасии Вяльцевой пришел первый успех. Ей дали тогда самостоятельную роль в спектакле, поставленном по оперетте Николая Ивановича Куликова «Цыганские песни в лицах».

Роль цыганки Кати была совсем маленькой, но Вяльцева так спела романс «Захочу – полюблю», что бесхитростные слова:
Я степей и воли дочь,
Я забот не знаю,
Напляшусь на целу ночь —
День весь отдыхаю.
Захочу – полюблю,
Захочу – разлюблю.
Я над сердцем вольна,
Жизнь на радость мне дана! [18] Слова и музыка Н. И. Шишкина.
—
покорили публику. Вяльцевой долго аплодировали, студенты бросали на сцену фуражки… Успех артистки, певшей:
Подари мне молодец
Красные сапожки!
Разорю тебя вконец
На одни сережки! —
был полным, но самое главное – на этом спектакле Вяльцеву заметил богатый петербургский адвокат, завзятый меломан, 35-летний Николай Иосифович Холев. 22-летняя Анастасия Вяльцева стала, как тогда говорили, его воспитанницей.
Николай Иосифович оплатил Вяльцевой занятия вокалом с преподавательницей консерватории Елизаветой Федоровной Цванцигер и, по сути дела, вылепил из нее великую артистку.
Тогда на эстраде уже взошла звезда Вари Паниной. Она была всего на год младше Вяльцевой, но родилась не в селе на Брянщине, а в Больших Грузинах, «цыганском» районе старой Москвы, и эстрадная судьба ее сложилась проще и быстрее.

Четырнадцатилетней девочкой Варя (тогда она еще была Васильевой) попала в цыганский хор «Стрельна» Александры Ивановны Паниной.
Хотя и пела Варя исключительно по слуху, но память у нее была уникальная – достаточно было сыграть новый романс, и она сразу могла спеть его соло, без аккомпанемента.
Выйдя замуж за племянника своей хозяйки, хориста Панина, Варя вскоре перешла в «Яр», где выступала как солистка и участница цыганского хора.
В ее голосе было столько страсти и силы, что многие и ездили в «Яр», только чтобы услышать Варю Панину. Первенство ее казалось неоспоримым. Художник Константин Коровин заявил однажды Федору Шаляпину, что Панина поет лучше его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)

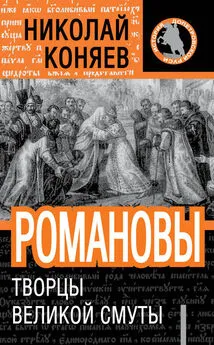

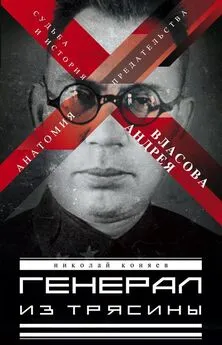


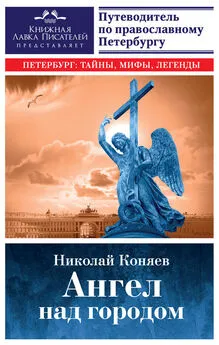
![Владимир Малышев - Петербург: необыкновенные биографии [Город и его великие люди] [litres]](/books/1068139/vladimir-malyshev-peterburg-neobyknovennye-biograf.webp)