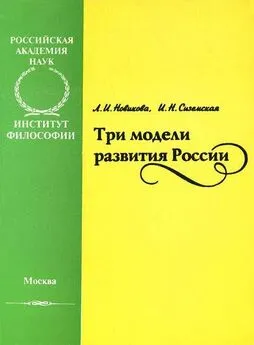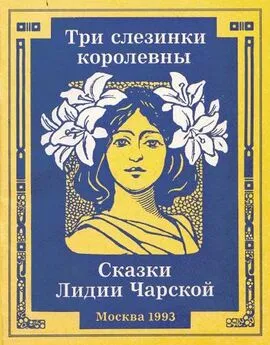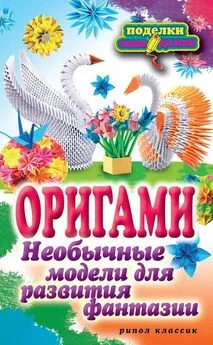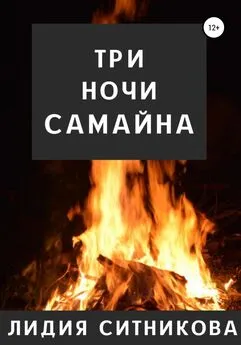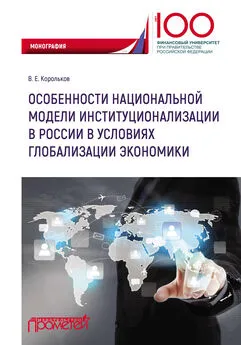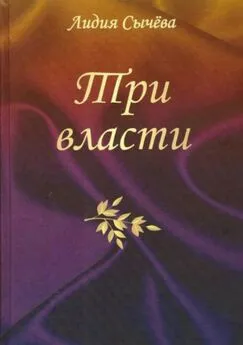Лидия Новикова - Три модели развития России
- Название:Три модели развития России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЦОП Института философии РАН
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-201-02031-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Новикова - Три модели развития России краткое содержание
Три модели развития России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Короче, религиозная легитимация самодержавия великокняжеской, позже царской власти стала своеобразным «категорическим императивом». Подтверждением тому может служить открытая полемика Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Грозный обвиняет своего вчерашнего сподвижника с его друзьями в измене, в посягательствах на авторитет царской власти, в частности на попытки ограничить самодержавие «советом ближних бояр», которых, по словам Курбского, «самому царю достойно любить и слушаться как своих руководителей». Напротив того, Грозный убежден, что всякая власть от Бога, даже если она приобретена насилием (значит, того восхотел Бог), и следовательно, всякой власти покоряться должно. Свою власть Грозный считает вдвойне законной - по Божьему изволению и праву рождения. С гордостью он воспроизводит свою генеалогию, берущую начало от святого Владимира и Александра Невского, как основание легитимности своей власти». На защищаемую Курбским идею ограничения царской власти советом ближних бояр Грозный отвечает ссылкой на историческую традицию: «Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!». [27]К этой мысли он возвращается неоднократно и настаивает на таком понимании самодержавия, когда царь сам строит свое государство, имея не номинальную, а реальную власть. Подданные же должны безоговорочно повиноваться своему повелителю. При этом он отметает обвинения в жестокости, которые ему предъявляли Курбский и другие современники, а позднее и потомки, так как жестокость, как деяние несправедливое, имеет смысл там, где обозначены пределы власти, самодержавие же, в понимании Грозного, в принципе отрицает их. Поэтому судить поступки самодержца дано ему самому да Богу, перед которым он даст ответ на последнем суде. Таким образом, религиозная легитимация является одним из важнейших аргументов самодержавия, без нее оно просто немыслимо. Огромную роль она сыграла в ранний период формирования государственности, когда церковь служила едва ли не единственной идеологической силой, обладая к тому же хорошо разработанными технологиями. Но и сами великие князья и цари Московские потрудились на этом поприще не мало.
Важнейшим механизмом легитимации самодержавной власти является наследственный принцип ее передачи. Утверждение его прошло путь долгий и трудный. Он пришел, как мы отмечали, на смену родовому «лествич- ному» праву. Затем в северо-восточной Руси он уступил место удельному обычаю, когда умирающий князь делил свое княжество-вотчину между всеми сыновьями, выделяя им города-уделы, которые в свою очередь дробились при следующем завещании. К тому же система наследования осложнялась и тем, что столы и удельные княжества зачастую не наследовались, а добывались. Правда, уже московские князья стремились преодолеть этот обычай, завещая по духовной старшему из сыновей большую и лучшую долю и оговаривая удельное владение младших послушанием «во всем» старшему брату. В результате такой сознательно «конструктивной» политики духовные грамоты (завещания) утратили свое значение уже при Иване III. Обычай закрепил самодержавное начало с первородством. Но только Павел I придал этому обычаю законодательный характер.
Смерть Грозного царя и замена его слабоумным наследником при сильном, но безродном управителе Борисе Годунове несомненно подрывала, пользуясь языком Ильина, монархическое правосознание подданных. Со смертью же царя Федора прерывалась и династическая линия рюриковичей. «Хорошо организованные» выборы [28]на Земском соборе царя Бориса и утверждение в качестве наследника его сына - царевича Федора, казалось бы, сняли напряженность ситуации. Однако стоило появиться лишь тени «законного» царевича Димитрия, как недовольство обойденных Годуновым родовитых бояр и подогретого, «раскрученного» ими народа, у которого всегда есть основания для недовольства, вылилось в Смуту.
Понятие Смуты, пожалуй, явление чисто русское. Это и не революция, и не борьба партий, и даже не мятеж. Это - СМУТА, когда все всем недовольны и нет положительной идеи, которая устроила бы всех или большинство вовлеченных в Смуту действующих лиц. Это - состояние всеобщего хаоса, которому не видно положительного конца. Смутное время сделало, казалось, все возможное для подрыва самодержавия, которое не сумело ни предотвратить, ни усмирить ее, а потом было омрачено позорною узурпацией бродяги-самозванца и нашествием поляков. С расшатанностью царской власти вновь подняла голову родовая аристократия, положив брать с царей «записи», ограничивающие их власть в свою пользу. Народ же «безмолвствовал», пока Смута не перехлестнула через край.
Найти управу на нее в порядке сословной иерархии брались, по словам С.Ф.Платонова, разные сословия московского общества, а «победа досталась слабейшему из них». Боярство, сильное правительственным опытом и кичащееся своим богатством, пало от неосторожного союза с иноверным врагом. Служилый землевладельческий класс, сильный воинской организацией, потерпел неожиданное поражение от домашнего врага - казачества, в союзе с которым мыслил свергнуть иноземное иго. И лишь посадские люди Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов, сильные только горьким политическим опытом круговой «измены» и «воровства», собрав ополчение во главе с Дмитрием Пожарским и гениальным человеком из посада - Кузьмою Мининым, дали отпор врагам внешним и внутренним. Широкая и ясная программа ополчения позволила ему освободить Москву, сохранив за собой значение общеземского правительства до выборов «всей землей» нового царя. «С появлением этой власти Смута нашла свой конец, и новому московскому царю оставалась лишь борьба с ее последствиями и с последними вспышками острого общественного брожения». [29]
Казалось бы, Смута могла иметь только негативные последствия. Тем более знаменательно, что русская историческая мысль сумела увидеть в ней многозначительное явление. Так, завершая свое большое исследование, Платонов пишет: «Смута смела все /…/ аристократические пережитки и выдвинула вперед простого дворянина и «лучшего» посадского человека. Они стали действительной силою в обществе на место разбитого боярства». Их усилиями была создана новая форма власти - Земский собор. «Царь и Земский собор составляли единое и вполне согласное правительство, главною заботой которого было поддержать и укрепить восстановленный государственный порядок». [30]
С.М.Соловьев отмечает, что Смута, охватившая все слои общества, с одной стороны, разрушала старые устои, обладавшие в результате своей «вращенности» во все ткани социального организма огромной консервативной силой. С другой стороны, это был период бурного исторического творчества, когда формировались новые социальные отношения и появлялись новые люди, способные придать им соответствующую политическую форму и права гражданства. Сплочение сил народных спасло государство от гибели. Большинство людей, истомленных Смутою, хотело, чтобы все было по-старому, замечает историк. Однако старина была восстановлена лишь по видимости. «Новое с новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старых преданий, спешило дать место новому». [31]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: