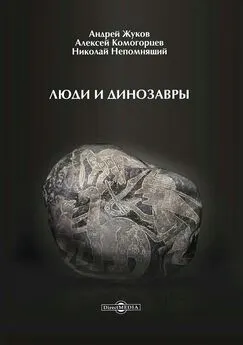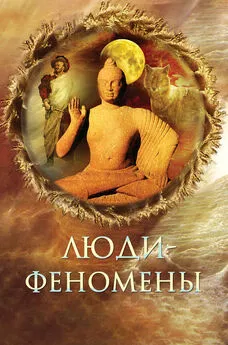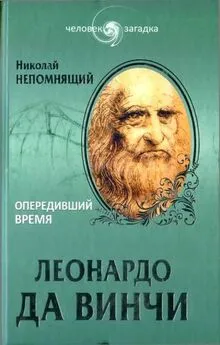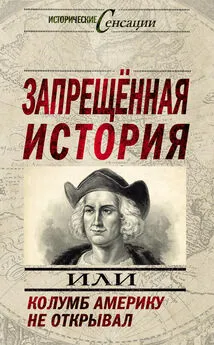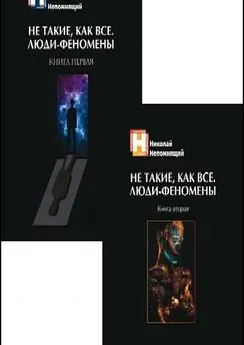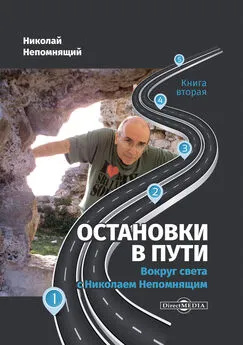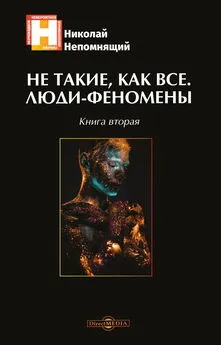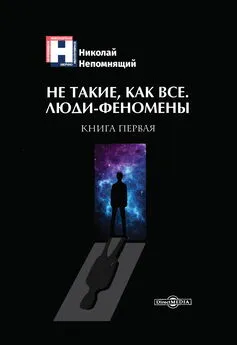Николай Непомнящий - Люди и динозавры
- Название:Люди и динозавры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Директ-Медиа
- Год:2019
- Город:Москва; Берлин
- ISBN:978-5-4475-9991-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Непомнящий - Люди и динозавры краткое содержание
Люди и динозавры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В качестве наглядного символа многофазовой инициации в православной традиции Багдасаров называет один из центральных сюжетов иконографии «Страшного суда», представленный так называемым «Змеем мытарств». На этом сюжете, появляющемся между XIII и XV вв., изображается восхождение души в виде огромного змея, растянутого от адской геенны до небес. Внутри чудовища движется человек в образе посвящаемого, т. е. беззащитного отрока или младенца. Змей членился на сегменты, каждому из которых соответствовал определенный «демон». В среднем число сегментов достигало 21. Змей понимался как некий путь, который должна проделать душа, начиная от хвоста Змея и кончая его головой, т. е. от Иуды до чистого младенческого состояния души через крестную жертву и последующее Воскресение Спасителя. Багдасаров пишет: «Художники любят св. Антония, облепленного нечистью, но вот победу подвижника над демонами не рисуют никогда. А зря. Выдержав концентрированную дозу инферно, посвящаемый получал бесовские полчища в собственное распоряжение».
Это важное замечание подкрепляется, с одной стороны, историей святого мученика Конона Исаврийского, подчинившего «ополчившихся» на него «бесов», а с другой — содержанием традиционного славянского обряда посвящения в колдуны. Криничная указывает, что в различных вариантах этого посвятительного сюжета неофит, пролезший сквозь чрево чудовищного зооморфного существа, обретает «чудесных помощников», через которых к нему поступает «знание» из потустороннего мира, «где хранятся первоначала и тайны бытия». Таким образом, обретение «тайного знания» сводится к обладанию магической властью над мифическими существами, со временем переосмысленными в негативном ключе и выступающими в качестве «дьяволов», «чертей» и прочих «нечистых духов».
В каббалистической демонологии аналогичную роль выполняет первая жена Адама Лилит, самое раннее упоминание о которой обнаруживается в шумерском царском списке 2400 г. до н. э., где она фигурирует в качестве демонессы Лилиту. В сочинениях испанского каббалиста середины XIII в. рабби Исаака Акоэна встречается упоминание о том, что Лилит «есть лестница, по которой можно подняться до пророческих высот». Это означает, что Лилит (отождествляемая каббалистами с библейским «Левиафаном, змеем изгибающимся») помогает тем, кто обрел власть над ней, получить пророческую силу. Эта, казалось бы, малосущественная оговорка средневекового каббалиста может на деле содержать завуалированное указание на существование в каббалистической среде уже упомянутых нами выше практик, направленных на получение власти над мифическими существами.
При этом следует помнить, что сведения, связанные с подобного рода практиками, представляют собой внутренне знание, тщательно оберегаемое от непосвященных. Австралийский антрополог Адольф Питер Элькин (1891–1979) писал: «Судя по обрывкам свежей информации, которые мне удается получать время от времени, я сомневаюсь, что хотя бы один из нас когда-либо был полностью посвящен во все тайны ритуалов и сакрального знания. Но если это трудно в случае с религиозными мужскими культами, то это еще более трудно, когда дело касается ритуалов, в результате которых получает свою магическую силу знахарь».
В архаических обрядах инициации, рассмотренных Проппом, и в обряде посвящения славянских «знающих», о котором пишет Криничная, предполагается временная смерть неофита, поглощенного чудовищным (изначально тотемным) животным, и его воскресение уже новым человеком. В этом эпизоде реализуется мифологема: проглотить значит родить, желудок чудовища представляется в качестве материнского лона. Указанные обстоятельства проливают дополнительный свет на мотив происхождения героя-змееборца от своего чудовищного антагониста, заставляя искать корни этого мотива в сфере посвятительных обрядов.
Связь храма как запечатленной модели мироздания с чудовищем, олицетворяющим «сокровенные первоначала и тайны бытия», наглядно иллюстрирует древнейшая традиция использования реликтовых существ в качестве храмовых животных. Мы уже касались этой темы в связи с Елабужским оракульским центром и практикой содержания священных змей и «giwoites» в языческих святилищах на территории современной Польши. Наиболее ранние следы этой традиции зафиксированы в 14 главе Книги пророка Даниила, где упоминается о живых драконах, содержавшихся при вавилонских храмах: «Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили его. И сказал царь Даниилу: не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой» (Дан. 14:23–24).
О природе вавилонского дракона можно судить по изображению существа, помещенного рядом с реальными животными (львами, быками и турами) на знаменитых Воротах богини Иштар в Вавилоне, возведенных в 575 г. до н. э. по приказу царя Нововавилонского царства Навуходоносора II (605–562 до н. э.). В клинописных текстах это животное фигурирует как mushussu («мушруш», «мушрушу»), или «сирруш». Это имя происходит от аккадского слова, которое, как мы уже указывали в главе «Драконьи пастухи», переводится как «ужасный змей, дракон».
Изображение «мушруша» выглядит весьма реалистично: узкое длинное туловище, покрытое чешуей, длинная шея, оканчивающаяся змеиной головой, украшенной прямым рогом, тонкий чешуйчатый хвост; из закрытой пасти высовывается длинный, раздвоенный на конце язык, на затылке видны кожистые уши. Возможно, на самом деле у «мушруша» было два рога, поскольку на соседствующем с ним изображении тура-рими также представлен всего лишь один рог. Наиболее примечательная деталь — лапы «мушруша». Передние похожи на лапы животного из семейства кошачьих, а задние — на птичьи. Они очень большие, четырехпалые, покрыты крепкой чешуей. Вопреки сочетанию столь разных деталей, «мушруш» выглядит как живой, и даже более естественно, чем изображенный рядом с ним тур-рими.
Немецкий археолог Роберт Колдевей (1855–1925), обнаруживший ворота Иштар, был уверен, что «мушруш» представлял собой реальное существо, которое может быть классифицировано как птицетазовый динозавр. В качестве его ближайшего родственника Колдевей называл игуанодона (лат. Iguanodon, от игуана и др. — греч. οδους «зуб») из рода растительноядных птицетазовых динозавров, обнаруженного в отложениях мелового периода (согласно официальной геохронологической шкале — 140–120 млн лет назад) в Бельгии.
«Примечательно, — пишет Колдевей, — что, несмотря на чешую, животное имеет шерсть. Рядом с ушами с головы ниспадают три спиралевидные пряди, а на шее, там, где должен быть гребень ящерицы, тянется длинный ряд вьющихся локонов».
Вспомним, что «щетинистые волосы» на шее, наряду с рогом, встречаются и в описании «страшного дракона», мирно соседствующего со святыми отцами из православного жития преподобного Давида Гареджийского. Те же характерные детали в виде длинной гривы на спине или шее чудовища обнаруживаются и в иконографии «чудского» ящера. Еще раз внимательно перечитаем описание бронзовой ажурной бляхи, найденной в 1898 г. близ деревни Ныргында, сделанное в 1900 г. сотрудником Императорской археологической комиссии профессором Спицыным: «Огромный, весьма типичный ящер, длинный, изогнутый, с коротким пушистым хвостом и короткими лапами; на сильно вывернутой нижней челюсти и на шее волоса, верхняя челюсть иззубрена» (фото 52). Та же самая шерсть, наряду с длинной шеей и чешуйчатым телом упоминается в описаниях китайских лошадей-драконов, которые приводят Терехов и де Фиссер, а также фигурирует на изображениях «гривастых» ящеров из американских коллекций Джульсруда и Барроуза (фото 30).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: