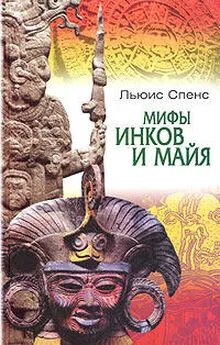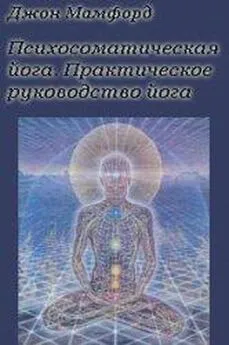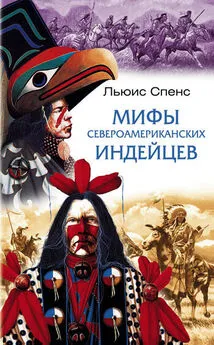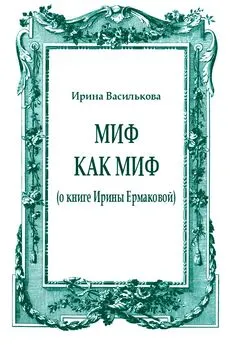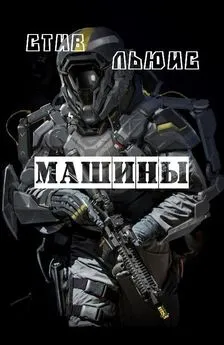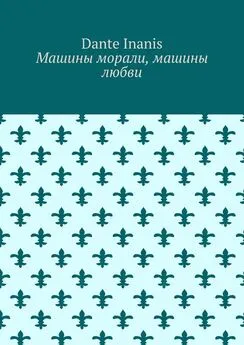Льюис Мамфорд - Миф машины
- Название:Миф машины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-8163-0015-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Льюис Мамфорд - Миф машины краткое содержание
Миф машины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя способность видеть сны (если такое истолкование верно) была одним из самых щедрых подарков природы человеку, она потребовала более строгого упорядочивания и контроля, нежели прочие его способности, прежде чем из нее можно было извлечь наибольшую пользу. В сыром, живом состоянии сна сновидение, благодаря своей власти сопрягать никак между собой не связанные события или выявлять неутоленные желания и эмоциональные порывы, зачастую провоцировало человека на безумные поступки, — от чего, по-видимому, совершенно защищены животные, находящиеся в более диком состоянии (разве что за немногими сомнительными исключениями).
На протяжении всей истории сновидения и наставляли, и пугали человека. И обе эти реакции имели под собой почву: должно быть, его внутренний мир нередко оказывался более грозным и менее постижимым, нежели внешний мир (да так оно и остается по сей день); и первоочередной задачей человека было не изготовлять орудия для подчинения себе окружающей среды, но измышлять инструменты еще более могущественные и действенные для подчинения самого себя — прежде всего, своего бессознательного. Изобретение и усовершенствование этих орудий: ритуалов, символов, слов, образов, стандартных моделей поведения (морали) — было, как я надеюсь показать, важнейшим занятием древнего человека, гораздо более значимым для выживания, чем производство вещественных орудий, и гораздо более важным для дальнейшего развития.
Кстати, мысль о том, что бессознательное «я» человека часто угрожало его жизни и ставило крест на самых здравых его намерениях, — отнюдь не открытие недавних лет, хотя впервые она была четко высказана благодаря смелым квазинаучным исследованиям Фрейда и Юнга. То, что в человеке враждует его сознательное «я» с бессознательным, его ночная личина — с дневной, было замечено давным-давно. Платон в «Государстве» пишет: «Когда дремлет главное, разумное и кроткое, начало души, — начало дикое, звероподобное вздымается на дыбы... В таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум... Оно не остановится даже перед попыткой сойтись с собственной матерью... Оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи... Какой-то страшный, дикий и беззаконный вид желаний таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными; это-то и обнаруживается в сновидениях» [6] Платон, Государство, IX, 571c-d, 572 b. Перевод А. Н. Егунова.
. Если принять нашу гипотезу, то тот большой пласт иррациональности, который дает о себе знать на протяжении всей человеческой истории, становится хотя бы отчасти объяснимым. Если человек изначально был животным, способным видеть сны, то, вероятно, он был в то же время и чрезвычайно беспокойным животным; источником же его наибольших страхов являлась его собственная гиперактивная психика. На подспудную тревогу, постоянно снедавшую его, указывает хотя бы то, что человек очень рано научился употреблять опийный мак и прочие растения, вызывающие наваждения или оказывающие успокоительное действие.
Итак, современные психологи лишь поравнялись с Платоном. Теперь, вооружившись информацией о бессознательном — сколь бы отталкивающим и пугающим ни казалось зачастую его содержание, — мы должны лучше представлять себе положение древнего человека. По сути, он оставался голым в культурном отношении — в такой степени, что нам это очень трудно вообразить сегодня, — и, следовательно, крайне незащищенным от внутренних угроз. До тех пор, пока человек не покрыл свое несформированное «оно» прочным слоем культуры, его внутренняя жизнь (едва только покинувшая безмятежную животную летаргию), должно быть, кишела архаическими гадами и слепыми чудищами глубин. Быть может, это отчасти объясняет, почему первобытный человек долгое время отождествлял себя с известными ему животными, которыми был окружен: как знать, не вселяло ли в него их присутствие то чувство спокойной уверенности, которое сам он, встав на путь дальнейшего развития, уже успел безоговорочно утратить? В их существовании была некая устойчивость и безмятежность, которой он теперь мог лишь завидовать.
Приступая к истолкованию докультурного состояния человека с точки зрения наших нынешних познаний в области психики, начинаешь понимать, что его выход из животного состояния сопровождали трудности, связанные с теми необычайными качествами, которые и делали сам этот переход возможным и даже — коль скоро он начался — неизбежным. Конечно, куда легче было бы вообразить себе эту промежуточную стадию, если бы мы могли по-прежнему думать о человеке как о всего лишь исключительно умной И ловкой обезьяне, которая все лучше и лучше овладевает понятной и податливой средой.
К сожалению, такое рациональное представление не соответствует ни сохранившимся свидетельствам, ни необходимым выводам, которые надлежит сделать, очистив свой ум от различных культурных наслоений, ставших для нас второй натурой. До того, как человек овладел речью, должно быть, единственным голосом, который он узнавал, было его собственное бессознательное, причем голос этот изъяснялся с ним весьма противоречивыми и путаными образами. Возможно, лишь каким-то тупым упрямством можно объяснить то, что человек все-таки сумел обратить себе на пользу эти коварные способности и преобразовать их.
Пожалуй, наилучшее представление о той ранней стадии могут дать нам австралийские аборигены, которые, когда с ними впервые повстречались европейцы, по своему укладу и образу жизни ближе всего из современников стояли к первобытным людям. Постоянно ощущая присутствие своих духов-предков, старательно следуя их заветам и чтя их наставления, они до сих пор говорят об Алчеринге (что значит «далекое прошлое, похожее на сон»), откуда к ним пришли все их ценные знания. Как замечает Рогейм, во многих австралийских языках есть схожие слова, обозначающие сновидения, мифическое прошлое и предков.
Мне бы хотелось показать, что это отнюдь не просто фигура речи: это отсылка к тому реально существовавшему периоду человеческого развития, когда внутреннее око сновидца порой одерживало верх над бдящим глазом наблюдателя, тем самым помогая человеку освободиться от естественных уз, приковывавших его к непосредственному окружению и текущему моменту. В тот бессловесный период существовало лишь два языка: конкретный язык связанных между собой вещей и событий — и призрачный язык сновидений. До тех пор, пока сновидение не помогло человеку сотворить культуру, оно, наверное, служило ему неким ее неосязаемым заменителем — коварным, обманчивым, вводящим в заблуждение, но в то же время и будоражащим ум.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: