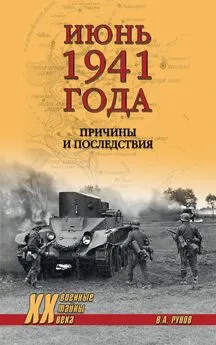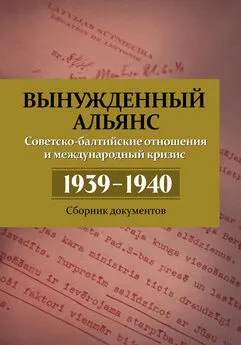Александр Чубарьян - Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года]
- Название:Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2008
- ISBN:978-5-02-035966-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Чубарьян - Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года] краткое содержание
Для историков, политологов и более широкого круга читателей.
Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот неожиданно в апреле 1941 г. советские дипломаты возвращаются снова к этой теме и дают через Шуленбурга сигнал в Берлин, что в Москве готовы благожелательно рассмотреть вопрос о присоединении к Антикоминтерновскому пакту.
Не вызывает сомнений, что сталинская идея о роспуске Коминтерна была неслучайной. В 1943 г. Сталин пошел на роспуск Коминтерна, чтобы продемонстрировать свою лояльность и стремление к сотрудничеству на этот раз с США и Великобританией, а двумя годами раньше он был готов на тот же шаг, но для маневров в отношении Германии. Ни Гитлер, ни Риббентроп, как известно, даже не ответили на советское заявление.
Анализируя действия СССР в начале лета 1941 г., заявления Сталина и его соратников, все перипетии советской внутренней и внешней политики, можно прийти к обоснованному выводу о том, что, видимо, одновременно с подготовкой к войне в Москве решили максимально оттягивать время , продолжать политику "экономического умиротворения" Германии, реагировать (особенно по дипломатическим каналам) на растущую агрессивность с ее стороны, но делать все, чтобы не спровоцировать немцев на нападение и выигрывать время для реализации программы перевооружения Красной Армии, не предпринимая в то же время немедленных конкретных шагов по приведению войск на границе в боевую готовность. Именно в этом контексте следует оценить и известное опровержение ТАСС от 10 мая и заявление ТАСС от 14 июня 1941 г. То, что они дезориентировали советских людей, не слишком волновало политиков и идеологов в Кремле. Оба заверения шли в одном русле, они были обращены к Германии все с той же целью — показать желание сотрудничать с ней, может быть, даже вызвать ее лидеров на какие-то ответные шаги и заявления.
Некоторые историки оценивают советскую политику в отношении Германии в конце 1940 — начале 1941 г. как политику "умиротворения", сравнивая ее даже с акциями Англии и Франции накануне и во время Мюнхенского соглашения 66. Тактику СССР в те последние перед войной месяцы можно объяснить, но она обрекала страну на пассивность и в военной и во внешнеполитической области. Собственно, она была завершением линии, начатой советскими лидерами после событий августа — сентября 1939 г. Не остановившись на простом договоре о ненападении, что было бы оправданно, а подписав договор о дружбе с Германией, практически сведя к минимуму все контакты с Англией и США, даже не пытаясь использовать их в качестве хоть какого-либо противовеса Германии, прекратив всякую антифашистскую пропаганду, посылая Гитлеру приветствия по поводу разгрома Франции и прочие жесты, Сталин стал, как мы уже отмечали, своеобразным заложником Гитлера, как бы поддерживая его устремления и планы. Эти действия нельзя было ни исправить, ни компенсировать никакими тактическими шагами, особенно после молниеносного разгрома Франции. Именно тогда стало очевидным, что СССР уже мало что мог предпринять в международном плане. И полностью это осознали в Кремле, когда Гитлер устремился на Балканы, не оставив Москве ни малейшего шанса сохранить там какое-либо советское влияние, даже в отношении таких стран, как Болгария и Югославия, и в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 г.
Любопытно, что оба враждующие между собой блока — Германия совместно с Италией и англо-французская коалиция, а затем и одна Великобритания словно соревновались между собой, вытесняя Советский Союз из Балкан, из районов Средиземного и Черного морей.
По мнению некоторых военных, трудно говорить и о том, что, расширив свою территорию, Советский Союз укрепил военные позиции и безопасность страны. Новая граница с Германией оказалась уязвимой, а в Прибалтике не было создано никаких серьезных сухопутных и морских укреплений. Неслучайно в первые же недели войны немцы легко прошли новые западные советские рубежи и быстро оккупировали Прибалтику и присоединенные территории.
Впрочем все эти заключения, выводы и объяснения делались и делаются постфактум и становятся делом историков. А тогда, в условиях сложной и необычайно противоречивой обстановки (что всегда бывает накануне или в начальной стадии большой, а тем более мировой войны), когда решения принимались втайне, не всегда легко было найти оптимальное решение и определить направление развития событий. Может быть, именно эта сложность и противоречивость ситуации и является причиной того, что период 1939— 1941 гг. и по сей день остается темой острых споров и дискуссий.
* * *
Такова была ситуация накануне германского вторжения. Сегодня, спустя многие десятки лет, историки и политики, журналисты и дипломаты спорят о том, правилен ли был курс, взятый тогда советским руководством, анализируют разные возможные варианты, но все это носит характер предположений. Историк не выносит обвинительного вердикта или приговора, он может лишь, анализируя реальный ход событий, предложить свою версию и интерпретацию. Ясно одно — действия советских лидеров отражали характер того строя и той власти, которые были в Советском Союзе. А мы сегодня оцениваем происходившие процессы с позиций историков, живущих в принципиально иной стране и в кардинально изменившейся международной обстановке.
А тогда, в июне 1941 г. советская страна словно замерла в ожидании. В Кремле шли беспрерывные встречи членов Политбюро и руководящего военного состава. Осведомленные дипломаты, идеологи и журналисты гадали, сколько дней оставалось до войны. В немецком посольстве паковали ящики, а расстроенный посол фон Шуленбург, так не хотевший военного столкновения с Россией, уже не видел никаких шансов избежать войны. Он слишком хорошо знал намерения германских лидеров.
В Берлине же царили настроения эйфории от нового грандиозного военного похода, который должен был сокрушить большевизм, покорить Россию и после этого нанести последний удар по Великобритании. В итоге вся Европа была бы в руках Гитлера, и он мог бы думать о новом переделе мира, о захватах в Азии и т.п.
Черчилль испытывал некоторое облегчение, поскольку Англия не подверглась германскому вторжению, явно выигрывая войну на море и лишая немцев превосходства в воздухе. Он консультировался с Рузвельтом о согласованности решений в случае начала войны между СССР и Германией.
А главный персонаж в Кремле, оставаясь наедине с собой, видимо, задавал себе все те же вопросы — правилен ли был его выбор в августе — сентябре 1939 г., действительно ли он не смог переиграть Гитлера. Скорее всего, Сталин не хотел верить в то, что война была у порога. Все политические и дипломатические средства оказались исчерпаны. Ему оставалось только ждать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Чубарьян - Канун трагедии [Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 - июнь 1941 года]](/books/1073674/aleksandr-chubaryan-kanun-tragedii-stalin-i-mezhdunarodnyj-krizis-sentyabr-1939-iyun-1941-goda.webp)

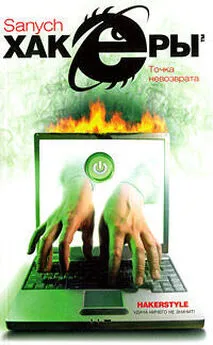
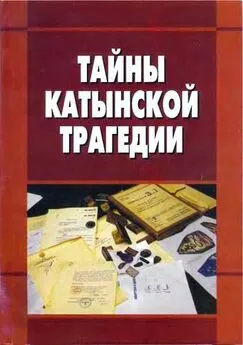
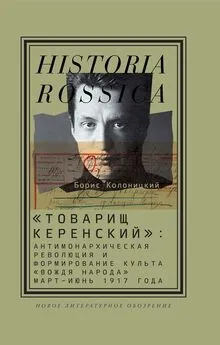
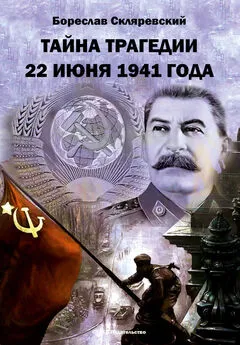
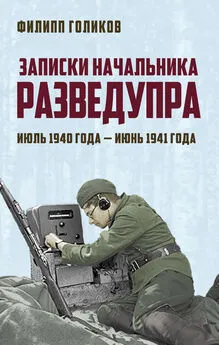
![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)