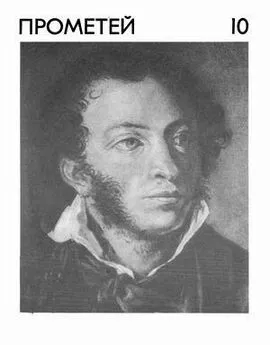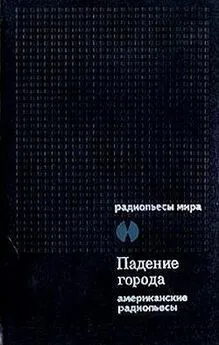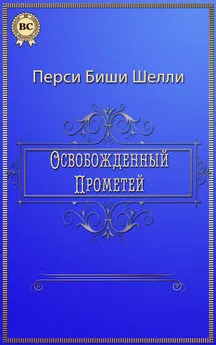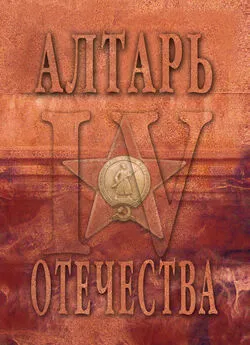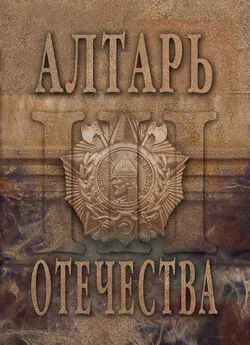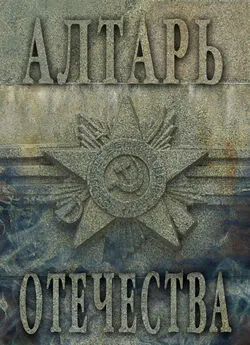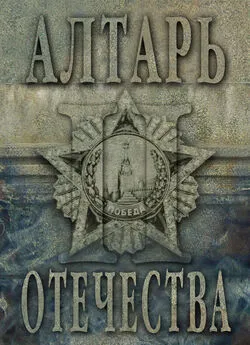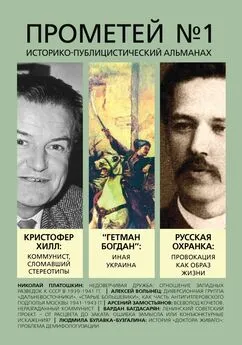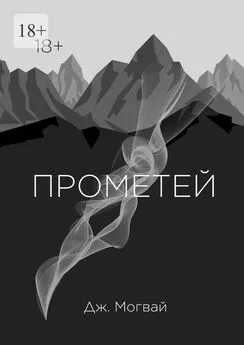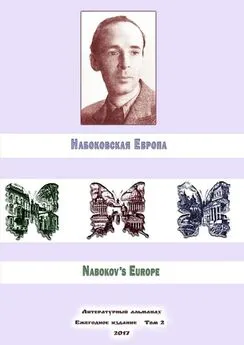Альманах «Прометей» - Прометей, том 10
- Название:Прометей, том 10
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия»
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альманах «Прометей» - Прометей, том 10 краткое содержание
Том десятый
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Москва 1974
Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящён Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты.
Научный редактор и составитель Т. Г. Цявловская
Редакционная коллегия:
М. П. Алексеев, И. Л. Андроников, Д. С. Данин, Б. И. Жутовский, П. Л. Капица, Б. М. Кедров, Д. М. Кукин, С. Н. Семанов (редактор), A. А. Сидоров, К. М. Симонов, С. С. Смирнов, B. С. Хелемендик
Прометей, том 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я: Это замечательно! Это подтверждает окончательно гипотезу пушкинистов. Догадался И. А. Новиков, прочтя свежим взглядом стихи „Младенцу“, потом увидел портрет смуглой дочери Воронцовой — и всё понял. Делал доклад [128] В докладе «Пушкин в селе Михайловском в 1824—1826 годах», прочитанном в Пушкинской комиссии Академии наук СССР 13 марта 1935 года, И. А. Новиков высказал предположение, что Пушкин в своём незавершённом стихотворении «Младенцу» разумел своего ребёнка от Воронцовой. (См. указанную статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева», стр. 276.)
. Написал об этом в своём романе [129] Роман И. А. Новикова «Пушкин в Михайловском». М., 1936, стр. 111—114; его же роман «Пушкин в изгнании». М.—Л., 1947, стр. 450—452; изд. 1953 г., стр. 515—517.
. Мстислав Александрович был совершенно с ним согласен, ввёл этот эпизод в свою статью о Пушкине и Воронцовой [130] См. статью М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева».
. Потом были у него и ещё догадки о других материалах; позднее и я осмыслила происхождение некоторых стихов. Я всё это должна дописать.
— Только не надо об этом сейчас печатать и говорить! Пока жива тётя Юлия [131] Вдова внука поэта Григория Александровича Пушкина — Юлия Николаевна Пушкина (1873—1967).
, — не надо. Надо щадить старых людей.
— А она знает?
— Не знаю. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Вам говорю первой. Я-то держусь других взглядов. Во-первых, я считаю, что жизнь Пушкина не надо утаивать, и не вижу ничего дурного в том, что у него мог быть внебрачный ребёнок».
Так вот какой характер отношений был между Пушкиным и Натальей Николаевной! Он пришёл к браку с сердцем, облегчённым полной исповедью.
Вероятно, уговорились они делиться друг с другом всеми своими увлечениями, и прошедшими и будущими. Отсюда — постоянная тема ревности, то серьёзной, то шутливой, в переписке Пушкина с женой [132] Соображения С. М. Бонди.
.
И ещё одно подтверждение достоверности этой гипотезы И. А. Новикова.
В «Мемуарах кн. М. С. Воронцова за 1819—1833 годы» [133] В подлинном тексте «Воспоминания» написаны на французском языке. Опубликованы они — «Mémoires du prince M. Woronzow. 1819—1833» в издании «Архив князя Воронцова». Книга XXXVII. М., 1891, стр. 63—102. Ниже записи Воронцова даются в переводе.
, составленных им для сестры его леди Пемброк [134] См. там же, во Введении П. И. Бартенева (стр. XI ненумерованная).
, есть упоминания о рождении всех его детей. Отсутствует только запись о рождении Софьи [135] В главе «1820» сказано: «В начале этого года Лиза родила дочь, которую мы потеряли через несколько дней после её рождения» (стр. 70). В главе «1821»: «В Лондоне родилась наша дочь Александрина» (стр. 71). В главе «1822»: «…Лиза тем временем родила сына, который был назван Александром и которого мы имели несчастье потерять год спустя» (стр. 72). В главе «1823»: «23 октября моя жена родила нашего дорогого Семёна» (стр. 73). В главе «1826»: «В Петербурге я получил известие о рождении сына, который был назван Михаилом и которого, к несчастью, мы потеряли позднее, в Англии» (стр. 78).
.
Быть может, это умолчание случайно и не вызвано оскорблённым чувством мужа? В главе о 1832 годе Воронцов называет Софью среди своих детей [136] В главе «1832»: «Мы провели начало 1832 года в Лондоне с поездками в Брайтон, где мы поместили на время нашего сына Семёна в школу, а наша дочь Софья была помещена тоже временно к госпоже Перси, также в Брайтоне» (стр. 96—97).
. А может быть, это позднейшее «признание» своего отцовства вызвано осиротевшим чувством отца: из шести детей его к тому времени уцелело только двое [137] Четвёртой умерла девятилетняя дочь. В главе «1830»: «Тем временем мы были под угрозой большого семейного горя: наша старшая дочь Александрина, рождённая под Вашим покровительством в Лондоне в 1821 году, тяжело болела некоторое время золотухой. Все средства были перепробованы, и было решено, что мать свезёт её в Вену» (стр. 88—89). «В половине сентября <���…> я отправился соединиться с моей женой. Я узнал дорогой о несчастии, которое уже поразило нас, то есть о смерти нашей дорогой и чудесной дочери» (стр. 95).
.
18 октября, дней через десять после написания стихотворения «Младенцу», Пушкин создаёт одно из самых драматических своих стихотворений — «Коварность».
Здесь вновь появляется слово «клевета», оставшееся в черновике «Младенца». Там, предвидя, что его ребёнку будут рисовать образ отца искажённо, Пушкин мог иметь в виду и Воронцова, и Раевского.
В «Коварности» же речь о другой клевете, уже сыгравшей свою роль. Неясно, что имеет тут в виду Пушкин. Мы лишены возможности читать эти строки в черновике — этом кладезе драгоценностей, так часто помогающем понять намёки, выраженные в беловике более общо (утрачен фрагмент черновой рукописи стихов 13—24, всей обличительной части монолога поэта).
Пушкин обвиняет своего «друга» в том, что он употреблял «святую власть» «дружбы» на «злобное гоненье», «затейливо язвил» «пугливое воображенье» поэта, находил «гордую забаву» «в его тоске, рыданьях, униженье», был «невидимым эхом» «презренной клеветы» о «своём друге», иначе говоря — поддерживал её, «накинул ему цепь» и «сонного предал врагу со смехом»… Впрочем, поэт ничего не утверждает. Он ещё оставляет и своему «другу», и самому себе надежду, что всё это ошибка…
Оканчивается стихотворение убийственно:
Ты осуждён последним приговором.
После завершения стихотворения поэт уже с полным сознанием своей правоты озаглавливает его.
Коварность
Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи отдёрнет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкой сон»…
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье,
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочёл в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осуждён последним приговором
Стихотворением этим ответил Пушкин на «ласкательное» письмо к себе Александра Раевского, который, утверждая свою дружбу к нему, требует от Пушкина письма [138] Об этом письме А. Н. Раевского к Пушкину и о разных интерпретациях его в Пушкиниане см. в статье «Из записей П. И. Бартенева», стр. 269.
.
Интервал:
Закладка: