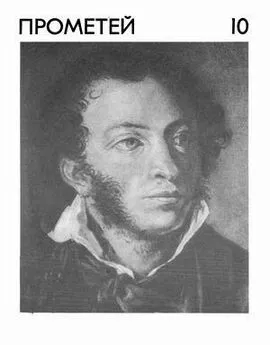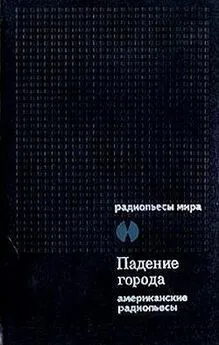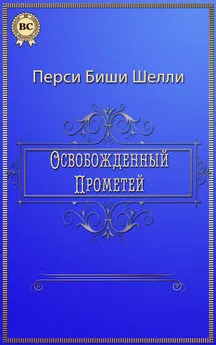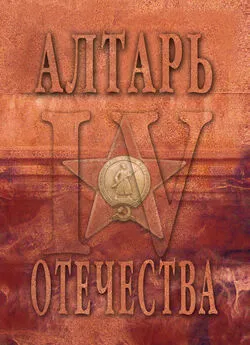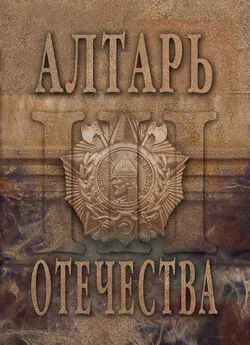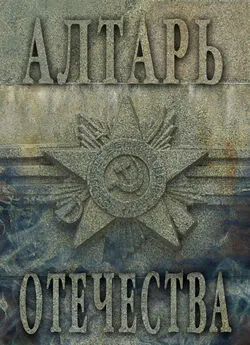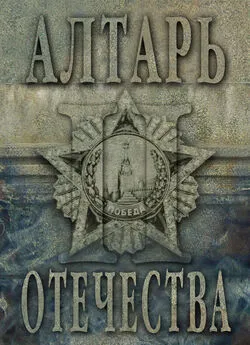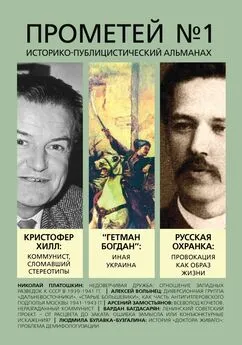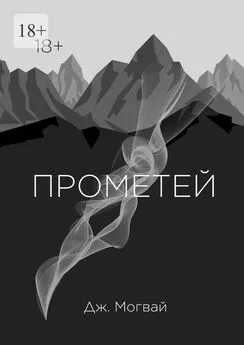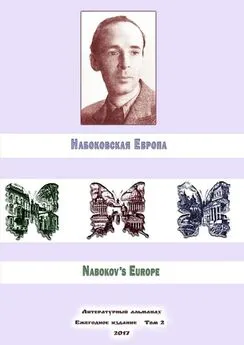Альманах «Прометей» - Прометей, том 10
- Название:Прометей, том 10
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия»
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альманах «Прометей» - Прометей, том 10 краткое содержание
Том десятый
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Москва 1974
Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящён Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты.
Научный редактор и составитель Т. Г. Цявловская
Редакционная коллегия:
М. П. Алексеев, И. Л. Андроников, Д. С. Данин, Б. И. Жутовский, П. Л. Капица, Б. М. Кедров, Д. М. Кукин, С. Н. Семанов (редактор), A. А. Сидоров, К. М. Симонов, С. С. Смирнов, B. С. Хелемендик
Прометей, том 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как же должно было утешить потрясённого изгнанника письмо от Дельвига, полученное в начале октября! И сообщением об общественном мнении, которое на его, Пушкина, стороне, и безграничной верой в гений поэта и в его человеческую правоту, и добрым тоном настоящего друга, милого Дельвига, и — как следствие — возрождением веры в дружбу…
«Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шёл, т. е. делай, что хочешь, но не сердися на меры людей, и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели б ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостаёт? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания. Продав второе издание твоих сочинений, пришлю тебе и денег, и, ежели хочешь, новых книг. Объяви только волю каких и много ли…» (письмо от 28 сентября 1824 г.; XIII, 110).
После написания стихотворения «Коварность» проходит дней десять. Пушкин пишет в черновом письме к В. Ф. Вяземской: «Всё, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава богу, небо у нас сивое, а луна точная репка…» (последние слова, начиная со слов «но слава богу», написаны во французском письме по-русски; XIII, 114 и 532).
Как это постоянно у Пушкина бывает, мысль, высказанная в письме, развиваясь, требует поэтического воплощения. Создаётся стихотворение, начальные стихи которого — антитеза пейзажа здесь и там — являются претворением в поэзии чувств и образов, выраженных в письме.
Ненастный день потух; ненастной ночи
мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…
Всё мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами…
Вот время: по горе теперь идёт она
К брегам, потопленным шумящими
волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… никто пред ней не плачет, не
тоскует;
Никто её колен в забвеньи не целует;
Одна… ничьим устам она не предаёт
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей
белоснежных.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Никто её любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна… ты плачешь…
я спокоен;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но если……..
Мы точно слышим прерывающееся дыхание поэта при воспоминании о любимой, при сопутствующем ему сомнении в ней…
Разъедающее душу неверие не даёт досказать подступившую догадку. Слова иссякают. Паузы — небывалые в поэзии — нарастают.
Мысль о Раевском не оставляет Пушкина. И не напрасно. Он услышит ещё о нём в 1828 году, вспомнит его и перед последней дуэлью.
Но идёт ещё 1824 год.
Пушкин должен уничтожить письмо Воронцовой — «она велела»… Вероятно, то, где она говорит ему об его будущем отцовстве.
В конце декабря или в начале января 1825 года появляется
Сожжённое письмо
Прощай, письмо любви! прощай: она
велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!.. вспыхнули! пылают — лёгкий
дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит…
О провиденье!
Свершилось! Тёмные свернулися листы;
На лёгком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел
милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
Отметим и один оброненный поэтом набросок об отсылаемом письме.
Так < нрзб. > слезами
Пылая капает сургуч
[143] В сознание читателей старшего поколения эти строки вошли в искажённом виде: Так на п[оследние] страницы Пылая капает сургуч. Так напечатано в издании: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. Ред. вступ. статьи и комментарии Валерия Брюсова. Т. I. ч. I, 1919, стр. 258..
Образ этот не получил развития.
А затем у нас на глазах происходит один неожиданный, казалось бы, непонятный творческий ход Пушкина.
В начале октября закончил он поэму «Цыганы», закончил совершенно, переписал, написал эпилог. Было это 10 октября. И вот спустя, три месяца, в январе 1825 года, поэт возвращается к законченной вещи. Он пишет так называемый монолог Алеко над колыбелью новорождённого сына.
Текст этот построен на контрасте отношения к младенцу, рождённому в цыганском шатре, и другому, рождённому в «блистающих палатах». Этот последний мотив еле слышится, он звучит как обертон, но он-то и важен поэту.
Монолог написан в духе всей поэмы, выражающей глубокое разочарование в просвещении, к которому пришёл Пушкин во время тяжёлого мировоззренческого кризиса в 1823—1824 годах.
Если в стихах, писавшихся непосредственно после известия о будущем отцовстве, драма Пушкина состояла в том, что он не смеет благословить своё дитя, и в том, что его образ в глазах ребёнка извратят, оклевещут, — то вскоре Пушкин перестал думать о себе. Он увидел грядущую судьбу своего незаконного ребёнка. Она проступает как доминанта:
Бледна, слаба Земфира дремлет —
Алеко с радостью в очах
Младенца держит на руках
И крику жизни жадно внемлет.
«Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоценённый дар свободы!..
Останься посреди степей.
Безмолвны здесь предрассужденья
И нет их раннего гоненья
Над дикой люлькою твоей.
Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Лишён и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен,
Тщеславных угрызений чужд,
Он будет жизнию доволен,
Не зная вечно-новых нужд.
Нет, не преклонит он [колен]
Пред идолом какой-то чести,
Не будет вымышлять измен,
Трепеща тайно жаждой мести —
Не испытает м<���альчик> мой
Сколь [жестоки пени],
Сколь чёрств и горек хлеб чужой —
Сколь тяжко <���медленной> [ногой]
Всходить на чуждые ступени.
От общества быть может я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал, чтоб мать <���моя>
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка,
Или в расселине утеса.
О сколько б едких угрызений,
Тревог, разуверений
Тогда б я в жизни не узнал,
О сколько…»
Интервал:
Закладка: