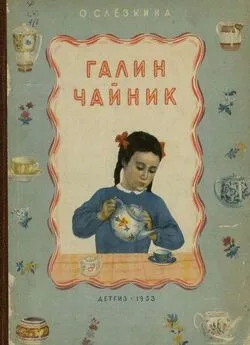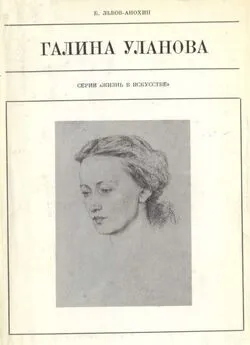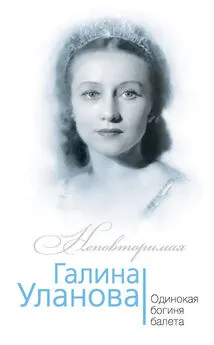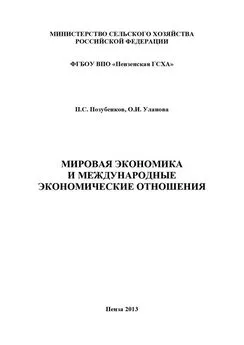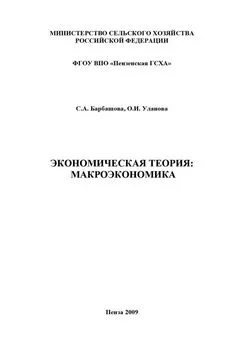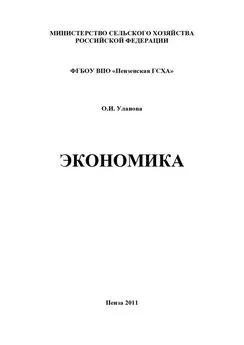Ольга Ковалик - Галина Уланова
- Название:Галина Уланова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03811-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Ковалик - Галина Уланова краткое содержание
Как смогла она, не обладая выдающимися внешними данными, взойти на балетный олимп? Как, в отличие от многих товарок, избежала навязчивого покровительства высокопоставленных ценителей прекрасного? На эти вопросы отвечает книга Ольги Ковалик, лично причастной к судьбе ее героини, вышедшей на сцену гением, а сошедшей с нее легендой.
[Адаптировано для AlReader]
Галина Уланова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Действительно, Уланова не застала выступлений Павловой и Нижинского, танец Карсавиной наверняка смутно помнила. Спесивцеву же, покинувшую Россию в 1924 году, она наблюдала не раз, хотя только однажды «проговорилась»: «Я десятилетней девочкой видела «Жизель» со Спесивцевой. Смотрела как завороженная. Природа щедро ее одарила: лицо с большими глазами и воздушный прыжок. Она была воплощением красоты и идеала. Именно такой я и представляла себе истинную балерину».
Ольга Спесивцева отличалась необычной для хореографического театра драматизацией смерти. Можно себе представить, как повлияло ее «неземное» искусство, ее «дух, плачущий о своих границах», на юную Галю. Судя по фотографии, запечатлевшей «предсмертный» взгляд Улановой в главной партии «Баядерки», эхо спесивцевского идеала, не поддающегося осквернению ни при каких обстоятельствах, никогда не умолкало в ее творчестве.
«Уланова была еще в школе, когда Спесивцева уехала за границу, — писал Ф. В. Лопухов. — Тем не менее в формировании собственного стиля Улановой я вижу какие-то черты наследства Спесивцевой. Традиции не всегда передаются прямо и непосредственно. Иногда они попадают к наследникам боковым, неведомым путем, через посредников, которые и сами не знают, что передают».
Мария Федоровна подробно и восторженно рассказывала дочери о спесивцевской Жизели. Однажды режиссер А. А. Белинский даже обиделся за Галину Сергеевну: «Что же, Спесивцева танцевала лучше Улановой?» Романова помолчала, а потом грустно ответила: «Не знаю». Еще помолчала и добавила: «Я ведь не знаю, как танцует Уланова».
Английский танцовщик Антон Долин, партнер Спесивцевой, вспоминал о приеме, данном в Лондоне в 1956 году примой театра «Ковент-Гарден» Марго Фонтейн:
«Поскольку я разговаривал и понимал по-русски, меня посадили за столом рядом с великой танцовщицей Улановой, которая в тот вечер исполняла «Жизель».
— Долин, вы танцевали с Ольгой Спесивцевой. Скажите мне, как вы находите мою и ее интерпретацию танца?
— Мадам, наблюдая за вашим танцем в первом акте, я как бы ощущал себя на сцене и видел перед собой Ольгу. Ваша живость, застенчивость, ваша игра и непринужденный танец так напоминали ее.
Увы, у нас было очень мало времени, чтобы поговорить, так как вскоре нас прервал кто-то, не склонный к дальнейшим разговорам на русском. Это были ранние дни «русского вторжения», и было совсем не так легко, как сейчас, поддерживать долгую беседу с русскими артистами, не порождая подозрений».
Когда в 1959 году гастролировавшие в Метрополитен-опере танцовщики Большого театра попросили о встрече Спесивцеву, коротавшую дни в пансионе Толстовского фонда под Нью-Йорком, та категорически отказалась, заявив: «Я никого из них не знаю. Они не моего поколения. Приехать сюда, чтобы только посмотреть, какая я. Нет, я не согласна. Возможно, если бы Галина Уланова захотела повидаться со мной, то это уже другое дело. Правда, она моложе меня. Я уже была прима-балериной, когда она еще ходила в класс, но мы обе из Ленинграда, обе — выпускницы школы Мариинского театра».
Материалом, «глиной» балета является тело, не только подвергающееся жесткому тренажу, но и восприимчивое к воплощению художественной задачи. Буквально с первых лет жизни в профессии Галя выработала неукоснительную балетную систему, результаты которой в 1938 году отметил критик Семен Розенфельд: «У Галины Улановой счастливейшим свойством ее дарования является ее разносторонность. Достоинства классического балета присущи ей в полной мере… Всё, что знает история балета последнего столетия — техническую виртуозность итальянской школы, совершенство пластики и воздушности последующей французской школы и, наконец, мягкость и содержательную выразительность русского драматического искусства, — Уланова объединила в себе одной, связав всё это с высокой культурой советского театра».
Конечно, она не могла отвечать за предусмотренные либретто действия своих героинь и поставленные балетмейстером движения, но как неординарный художник брала на себя всю ответственность за общее впечатление, которое спектакли с ее участием производили на зрителей. Поэтому никогда не переставала отбирать в свою артистическую сокровищницу разнообразные впечатления.
Под конец жизни она отчеканила свое определение хореографического искусства с «непонятными для всех жестами и движениями, называемыми по-французски»: «Что мы, балерины, от которых ничего не остается? Ритмическое состояние и жизненные представления». Впрочем, уже в начале своей карьеры Уланова уверенно заявила, что спектакль требует не только техники танца, но и «большого нутра». Это «нутро» усердно впитывало в себя особенные черточки современных ей балеринских индивидуальностей, чтобы в положенный час раскрыть собственную. Уланова писала:
«Я помню, еще девочкой была, как партию Авроры танцевала Елизавета Павловна Гердт, так эту партию и до сих пор танцуют. Так что, по-моему, партия сохранилась в том виде, в каком ее поставил Петипа. Гердт в то время очень много танцевала. Мы были маленькими и были заняты в тех же спектаклях, где она исполняла главную роль… Еще Елизавета Павловна помнится в роли принцессы Флорины, в грациозной позе, мечтательная и холодная, она прислушивается к пению птиц… Технически партия была само совершенство. Гердт была чисто классическая танцовщица с хорошими линиями в старой традиции…»
Елизавета Павловна, тоже потомственная балерина, унаследовала множество секретов исполнительского мастерства, которыми в 1928 году щедро поделилась с Галей Улановой, репетируя с ней «Лебединое озеро». Гале импонировало благоговейное отношение примы к искусству балета.
О другой старшей современнице Уланова писала:
«Танцевала еще Люком, это была танцовщица совсем другого плана, какого-то большого внутреннего обаяния, у нее была своя прелесть, непосредственность. Как она исполняла «Белую кошечку»!.. Чего только здесь не было — и шарм, и хитрость, и вкрадчивость, и ласка».
Маститый критик Андрей Левинсон назвал Люком «мотыльком новой весны». Действительно, она открыла список ленинградских прим советской формации, любимых «широким» зрителем.
Галина Сергеевна вспоминала:
«Сейчас номер «Красная Шапочка и Серый Волк» проходит незамеченным, а Эльзу Билль всегда вызывали на бис. Она так выразительно танцевала: вдруг встречалась глазами с Волком, глаза раскрывались, раскрывались еще шире, цветочки начинали сыпаться из рук, шло какое-то нарастание от первой робости до ужаса перед Волком. Она начинала пятиться от него, дрожать, дрожать всё сильней и сильней; а Серый Волк прыгал всё выше, выше, и становилось страшно».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: