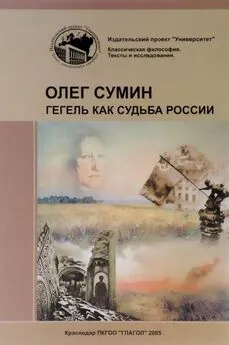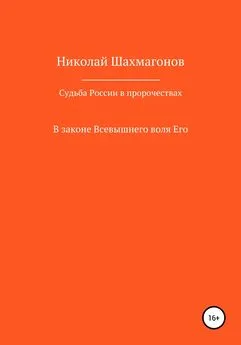Олег Сумин - Гегель как судьба России
- Название:Гегель как судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сумин - Гегель как судьба России краткое содержание
Предназначается для преподавателей, аспирантов и студентов социально–гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся проблемами классической философии, исторической судьбы России и славянского мира.
Гегель как судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, мы должны здесь попытаться набросать те особенности немецкой классической философии, выразителем которых стал Гегель и которые определили тот факт, что философская идея оказалась способной стать судьбой целого народа, а через судьбу этого народа и всего мира.
Особенностью немецкой классической философии стало то, что она дала предмету философии его необходимую и высшую форму, которой до этого философия не имела.
Предметом философии является абсолют или всеобщий разум. Задачей философии с момента ее появления в человеческой культуре являлось познание, определение этого абсолютного мышления. Античная философия определяла его как «нус», «перводвигатель», средневековая философия определяла его как бога, философия Нового времени теряет предмет философии. Развивая определения разума, она под разумом имеет в виду субъективный, человеческий разум. Всеобщий же разум продолжают называть «богом». Философия Нового времени, развиваясь в рамках религиозного представления, таким образом, исходила как из непосредственной предпосылки из того, что всеобщий разум, бог не может быть познан в мышлении. Бог может быть ухвачен только верой, и то частично. Предмет философии в философии Нового времени существовал только для религиозного чувства, а под предметом философии субъективно понимали те предметы, которые даны мышлению в непосредственности опыта. Познание бесконечного, как истинного предмета философии, в действительности не являлось основным творческим мотивом философов Нового времени. Философия, таким образом, развивалась эмпирической формой мышления, а ее истинный предмет — бесконечный разум — продолжал удерживаться как религиозное представление о боге. Развиваясь рассудком, философия, однако, вскоре накопила в себе такую «критическую массу» рассудочных определений, что мышление испытало в себе потребность приложить их и к познанию бесконечного предмета — бога. Зная бога как высшую истину, мышление стало раздражаться тем, что высшая истина познается только непосредственно: случайностью чувства. Мышление захотело для высшей и необходимой истины и необходимой формы. Вставшая перед философией задача состояла, таким образом, в том, что мышление должно было отвоевать свой истинный предмет у религии, показать, что именно бесконечное, абсолютное, всеобщее есть ее подлинный предмет, который она может и должна знать и что ее предмет тождествен с предметом религии, а вовсе не с предметом опытной науки. Начало этому процессу положил своим «трансцендентальным «Я» Кант. Он обнаружил для современной эпохи, что мышление, оказывается, во всем том, что оно называет «знанием», «наукой», основывается не только на наблюдении, чувственном созерцании и т. д., но и на себе самом. Процесс познания был им определен как синтетическая деятельность мышления, в котором последнее, хотя и имеет в виду чувственные данные опыта, но умозаключает по их поводу из себя самого и в себе самом. Все то, что наука называет «истиной», «необходимостью», содержится, таким образом, в нем самом — в, как он это назвал, «чистой апперцепции», «трансцендентальном единстве самосознания», которое является основой всех определений мышления, «категорий». Кант, таким образом, частично вырвал мышление из оков привязанности к миру конечных предметов, данных непосредственности и случайности чувства, и задал мышлению верное направление к познанию самой всеобщности и необходимости. Необходимость и всеобщность им были определены как само мышление. Дальше этого, однако, мысль Канта не пошла. Его дух существенным образом остался во власти эмпирической манеры, ибо самостоятельность мышления им была определена как субъективная деятельность мышления как формы, содержание которому, по–прежнему, должны были давать чувства. Канта в этой его позиции более всего укрепило то, что, когда он попытался сделать предметом мышления само бесконечное, идею, бога, он обнаружил, что мышление приходит к противоречию (антиномиям). Последнее и явилось для него основанием утвердить, что познание должно ограничиться только познанием мира явлений. Бесконечное же, бог, оказалось имеющим не «конститутивный», а «регулятивный» характер. Бесконечное, таким образом, было снова оставлено вне досягаемости познания. Предмет философии не был окончательно освобожден от власти случайности религиозного чувства.
Фихте и Шеллинг, однако, почувствовали, какая мощь разума содержится в положениях философии Канта. Фихте поставил требование развить всю определенность философской науки из единого принципа. Философия, разум по его мнению только тогда могут претендовать на нечто большее, чем субъективное мнение, если их построения имеют вид необходимой системы, развитой из единого принципа («из одного куска», как выразился Гегель), где все переходы являются логически необходимыми, а не привносятся, как в опытной науке, случайностью чувств. Фихте, однако, не вышел из рамок философии Канта. Двинувшись развивать все содержание разума из «Я», он обрек его также на случайность и субъективность. Только Шеллингу удалось сформулировать истинный философский принцип, который включал в себя как субъективную деятельность мышления, так и объективный процесс развития вселенной. Его «тождество субъекта и объекта», однако, было лишено в себе главного: самой философской формы, формы разума как необходимого логического процесса. В качестве метода познания бесконечного предмета философии, бога Шеллинг стал утверждать метод искусства и религии. И ему, таким образом, удалось только частично отвоевать предмет философии у религии и искусства. Окончательного освобождения предмет философии добился только в философии Гегеля.
Последний сочетал в своих построениях и «трансцендентальное «Я» Канта, и «бесконечное «Я» Фихте, и «тождество субъекта и объекта» Шеллинга. Гегель принял как необходимое положение Канта, что необходимость мышления содержится в нем самом. Однако из этого он не сделал того вывода, что «синтетическая» деятельность мышления является только «формой». Он стал настойчиво доказывать, что это есть единство содержания и формы, ибо мышление, имея дело с самим собой, со своими собственными определениями (категориями), фактически выражает саму суть вселенной. То, что в данном случае мышление имеет дело только с самим собой, т. е. плетет свои определения как паук паутину из себя самого, не обращаясь к материалу внешнего мира, его не смутило. Ибо материал внешнего мира, данный нам посредством чувств, является случайным, конечным. Рефлектируя по его поводу, мы поэтому обречены на познание только конечного. А так как мы поставили перед собой задачу знать бесконечное, абсолютное, то его нельзя искать во внешнем мире. Бесконечное не дано непосредственно. Оно дано умозрительному акту. Поэтому тот факт, что мышление движется только в себе самом, без опоры на внешний опыт, вовсе не означает того, что мышление субъективно. Оно столь же и объективно, только эта объективность есть не внешняя, случайная объективность, а внутренняя, необходимая и потому более высшая — это сама истина. Умозрительное мышление столь же объективно, сколь объективен и сам бог, который также не дан в опыте. Таково было утверждение Гегеля. «Вещи в себе» не существует. «Вещь в себе» и есть «для себя бытие» мышления, как всеобщего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: