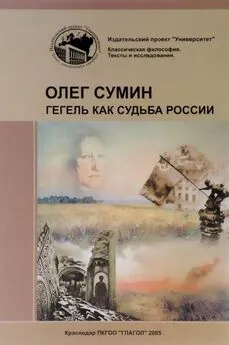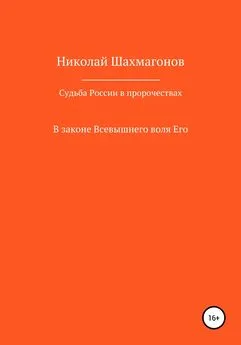Олег Сумин - Гегель как судьба России
- Название:Гегель как судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сумин - Гегель как судьба России краткое содержание
Предназначается для преподавателей, аспирантов и студентов социально–гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся проблемами классической философии, исторической судьбы России и славянского мира.
Гегель как судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Архитектура канала разрабатывалась группой архитекторов Гидропроекта во главе с Л. Поляковым, которая была выбрана в результате конкурса. Авторское участие в работах принимали скульпторы Е. Вучетич, Г. Мотовилов, Г. Шульц, М. Габэ и группа молодых воспитанников Московского высшего художественно–промышленного училища (бывшего Строгановского).
Сроки проектирования были максимально сжатыми, и подготовить только за один год все чертежи удалось благодаря: «…широкой типизации элементов и деталей… Были выработаны 50 типов сборных офактуренных железобетонных архитектурных деталей…, составлены альбомы типовых металлических решеток для окон и дверей…, типовых фонарей…» [230].
Среди самых значительных монументов на всем протяжении Волго–Донского комплекса выделялась фигура Сталина на правом берегу Волги. Ее авторы — Е. Вучетич и Л. Поляков. Скоро низвергнутая, эта фигура была выполнена из меди, размер ее составлял 26 метров, а вместе с постаментом — 72 метра.
На Цимлянском гидроузле сооружен монумент строителям канала, имеется обелиск, посвященный соединившимся пяти морям, и на башнях последнего пятнадцатого шлюза возвышаются две конных скульптуры, изображающие, одетых в советскую военную форму донских казаков (высота скульптур — 8 метров).
Самым интересным с содержательной точки зрения представляется монумент, воздвигнутый у тринадцатого шлюза, возле Калача. Последний был создан под руководством Вучетича и посвящен соединению двух фронтов, которые недалеко от этого места (в районе хутора Советский) сомкнули кольцо окружения группировки Паулюса.
Выше мы видели, что Волго–Донской канал является превосходящим двух своих предшественников по техническим показателям. Теперь, если мы сравним три канала с архитектурной точки зрения, то и в этом отношении Волго- Донскую архитектуру нужно признать как наиболее отвечающую своей цели.
Беломоро–Балтийский канал вообще не имеет архитектуры. Его символизм поэтому состоит не в архитектурноэстетическом облике, а в самом факте его существования. Еще молодая коммунистическая культура в нем не поднимается до эстетической формы, и неразвитое духовное содержание этой эпохи в нем воплощается в самом прозаическом инженерном сооружении. Предельно абстрактное содержание здесь выражено и в примитивной форме земляного рва, не имеющего никакого художественного облика, вырытого ценой неимоверного напряжения. Беломорканал — вавилонская башня советской России.
Канал Москва–Волга в этом отношении намного превосходит Беломорский как по техническому исполнению, так и по эстетическому облику. Его создатели положили максимум усилий для того, чтобы превратить его из инженерного сооружения в произведение искусства социалистического реализма.
В книге, посвященной архитектуре канала Москва–Волга, я с удивлением обнаружил, что авторы этого сооружения вполне сознательно отказываются от конструктивистских форм и стремятся к художественным архитектурным формам прошлого: «Борясь за социалистическую архитектуру, мы отказались от мнений, что в промышленном строительстве следует работать методами конструктивизма. Мы не могли пройти мимо классического архитектурного наследства Греции, Древнего Рима и эпохи Ренессанса…» [231].
В статье, посвященной значению архитектуры (автор А. И. Михайлов), прямо говорится о необходимости обращения к наследию Древнего Египта и других эпох с целью научиться у них способам передачи смыслового содержания через архитектуру [232].
Таким образом, к моменту построения канала Москва- Волга, коммунистический дух уже поднялся до необходимости художественно–эстетического символизма в архитектуре, что и нашло свое воплощение на практике. Эта большая развитость формы выражения говорит и о прогрессе в содержании. Последний состоял в том, что коммунистический дух укрепился в своей государственной форме, развил определенность промышленной и подчиненной государству личной жизни. Искать, однако, здесь большой глубины было бы ошибкой, так как развитие содержания еще не поднялось до осознания своей всемирно–исторической роли. В этих эстетических формах наивный советский дух просто резвится, нарциссически наслаждается своей молодостью. Отбросив всю глубину культуры мирового духа, советский рассудок остался наедине с самим собой, и ему не остается ничего другого как ощущать почти физиологически крепость своей жизни.
За архитектурный образец создатели Москвы — Волги также берут классическую архитектуру и скульптуру, но поскольку духовная определенность эпохи здесь, во–первых, принципиально иная, по сравнению с идеалом античной красоты, а, во–вторых, еще не развита в себе самой, то это обращение к прошлым архитектурно–скульптурным формам выливается здесь в наивную демонстрацию своих не столько духовных, сколько физических возможностей. В скульптуре канала (как и вообще всей скульптуре этой эпохи) доминирующими являются темы спорта, природы, физического труда, воды [233]. К теме «воды» мы еще вернемся позднее при рассмотрении вопроса о том, почему вообще коммунистический символизм раскрыл себя наиболее отчетливо в сооружениях и архитектуре водных каналов, здесь же лишь подчеркнем, что на Москве–Волге более доминирует тема жизни природы и ее освоения духом, тогда как на Волго–Доне получит свое раскрытие уже тема исторической жизни духа, его отношение не к природе, а к истории.
Архитектура Москвы–Волги пытается удержаться в рамках классического стиля, но желание блеснуть знанием всей мировой архитектуры приводит к смешению и греческого ордера, «совершенствуя», который коммунистическая архитектура вводит в украшение капители коммунистическую символику, и римской арочной конструкции (пятипролетная арка в здании затворов четвертого шлюза), и восточной арабески и воспроизведении мотивов русской архитектуры XVIII в. (нижние башни управления пятого шлюза) и др.
Если перейти теперь к архитектуре Волго–Дона, то здесь мы, во–первых, сразу обнаружим большее единство и простоту стиля при меньшей помпезности. Многие черты скульптуры и архитектуры предыдущего канала, конечно, заметны и здесь, но предыдущая пестрота разнообразных стилей тут приносится в жертву попытке остаться в рамках почти одного классического стиля. Здесь нет уже ни «спортивной» темы, ни романтики покорения природы. Может быть, даже есть основания говорить о большем изяществе. Так, если мы, например, сравним монумент соединения фронтов с монументами Сталина и Ленина на канале Москва–Волга, то нетрудно заметить, что последние уступают работе Вучетича. Если там мы имеем дело с почти совсем неорганичными формами, то здесь детали человеческих фигур более пластичны. Тем более это относится к монументу Матери- Родины в Волгограде, который также создан Вучетичем и может быть отнесен к этому же ансамблю. Несмотря на его огромные размеры, этот монумент содержит в себе определенную грацию, он не столь давит своей тяжестью. Конечно, и Волгодонские монументы еще далеки от собственно скульптуры, как и изображения Ленина и Сталина на Москве–Волге они являются чем–то средним между архитектурой и скульптурой, напоминая нам ту промежуточную стадию в развитии архитектуры, которая нашла свое отражение в египетских мемнонах, но большая развитость духа советской эпохи сказывается теперь и в этой разработке художественной формы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: