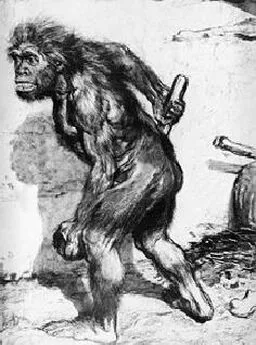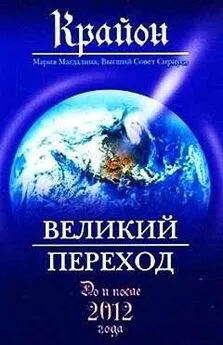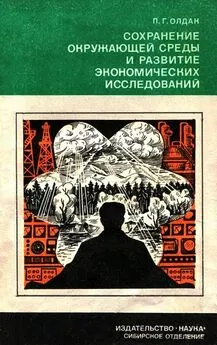Жорж Дюби - Развитие Исторических исследований во Франции после 1950 года
- Название:Развитие Исторических исследований во Франции после 1950 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Дюби - Развитие Исторических исследований во Франции после 1950 года краткое содержание
Развитие Исторических исследований во Франции после 1950 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я действительно многим обязан моей первой специальности географа: с ней связаны те методы, которые я позднее использовал в своей работе. Дело в том, что важнейшим источником при изучении географии человека, является ландшафт. Современный ландшафт — результат многолетнего воздействия множества переплетающихся факторов. Одни из этих факторов носят материальный физический характер, они даны природой: почва, климат, растительный покров. Другие, не будучи материальными, даны культурой и также в значительной степени определяют характер ландшафта: система родственных связей, практика наследования, правовые обычаи, привычки питания, верования или политические обстоятельства. Географу для того, чтобы объяснить особенности и характер ландшафта (в чем, собственно, и состоит смысл его работы), необходимо принять во внимание всю совокупность этих факторов, исследовать их взаимосвязь, соотношение, не отдавая предпочтения ни одному из них, в частности экономике перед политикой или культурой.
Именно мое студенческое изучение географии, опыт работы с картой и на местности легли в основу тех принципов, которые я изложил в 1970 г. но вступительной лекции в Коллеж де Франс. Я говорил, в частности, о необходимости «дополнить изучение материальных основ общественных структур прошлого изучением обрядов, верований и мифов» (именно «дополнить», так как начинать-то следует все же с этих самых основ). Я утверждал, что характер каждого социума определяется «совокупностью экономических, политических и духовных факторов», из которых ни один не может быть истолкован в отрыве от других. Я указывал на необходимость распознавать в этой разноголосице многообразных факторов, каждый из которых претерпевает собственную эволюцию в своем ритме, и их сочетание, и их диссонанс. Не один я испытал не себе влияние географии. Многие представители французской исторической школы были подвержены ему вплоть до 60-х годов. Плодотворное воздействие географии и сегодня обнаруживается в трудах Пьера Тубера, Ги Буа, Робера Фосье (если говорить только о медиевистах). Для меня же влияние географии тесно переплелось с воздействием книги Марка Блока «Феодальное общество», что сказалось уже при выборе темы докторской диссертации. Примечательно само название моей диссертации: «Общество» (как и в названии книги М. Блока, акцент делается на социальной истории), после чего следует указание на хронологические рамки «в XI–XII веках», и, главное, на географические границы— «в области Маконнэ». И действительно, в качестве образца для своей работы я взял региональные монографии, которыми в то время так славилась французская географическая школа. Я просто отнес вопросы, которыми задавались современные мне географы, ко временам восьми-девятивековой давности. Моими источниками были не только тексты, но и ландшафт, со всеми запечатленными в нем следами прошлого, названия местностей, расположение дорог, полей, жилищ.
Позднее, в первой значительной работе, написанной после защиты диссертации («Сельская экономика и жизнь западноевропейской деревни в средние века»), я, конечно, занимался экономической историей, однако сознательно избегал применения статистического и сериального методов. Это объяснялось не только отсутствием в документах количественных показателей, но и главным образом тем, что я отказался от преобладавшего до этого времени изучения городской, рыночной, экономики и обратил свое внимание на деревню. Я прежде всего хотел показать, как крестьянское общество поколение за поколением укоренялось в определенной местности и как организация этого общества зависела от соотношения между особенностями местности, с одной стороны, и техническими. демографическими, правовыми и политическими факторами — с другой.
Второе направление, идею которого я нашел в тех работах Марка Блока и Люсьена Февра, где они оба говорят о важности изучения «ментального инструментария», привело меня к тому, что мы назвали, за неимением лучшего термина, историей ментальностей.
Полагаю, что в этой области я действительно был инициатором, не один, но вместе со специалистом по новой истории Робером Мандру. Он тогда работал в Париже в VI секции Практической школы высших исследований, созданной Февром после войны. Мандру был очень близок к Февру, после смерти последнего он стал наследником и хранителем всего, что создатель «Анналов» не опубликовал при жизни. Я жил далеко в Экс-ан-Провансе, однако нас объединяла общая работа, порученная нам Люсьеном Февром — создание краткой истории французской цивилизации. И вот в середине 50-х годов мы с Р. Мандру под сильным влиянием Л. Февра ввели в сферу исторических исследований понятие «ментальность».
Понятие это, как я уже говорил, не вполне удовлетворительно. Слово «ментальность» во французском языке имеет несколько неопределенное значение, на что мне сразу же и было указано. В связи с этим я хочу пояснить, что мы подразумевали под ментальностью: это система (именно система) в движении, являющаяся, таким образом, объектом истории, но при этом все ее элементы тесно связаны между собой; это система образов, представлений, которые в разных группах или стратах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей. Изучение этих не имеющих четких контуров и меняющихся с течением времени систем затруднительно, необходимые сведения приходится собирать по крохам в самых разных источниках. Но мы были убеждены, что все взаимоотношения внутри общества столь же непосредственно и закономерно зависят от подобной системы представлений (носителем которой выступает система образования), как и от экономических факторов. Вот почему мы предложили систематически изучать ментальность.
Следует отметить, что наше предложение сразу же вызвало интерес: французские историки были готовы к нему. Потребность в чем-то подобном ощущалась давно. Я гордился нашей инициативой, но был тем не менее сильно изумлен, когда Шарль Самаран, директор Французских архивов, представитель Школы хартий — наиболее консервативного и враждебного духу «Анналов» направления, последователь позитивизма, в 1958 г. обратился ко мне с предложением написать для энциклопедического сборника «Историческая наука и ее методы» статью об истории ментальностей. Это означало нашу победу во Франции. В Италии, всегда принимавшей с интересом идеи, исходившие от группы «Анналов», мы получили признание очень быстро. В Германии, однако, долго сопротивлялись новому направлению; значительная часть англосаксонских историков также восприняла его сдержанно, многие из них и сегодня не изменили своего отношения. Тем не менее ценность нашей постановки вопроса была признана и «освящена» 20 лет тому назад на состоявшемся в Риме международном коллоквиуме по методологии истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: