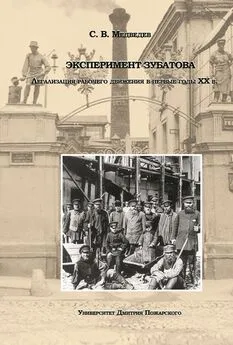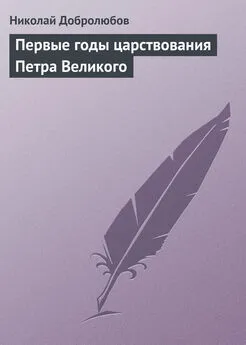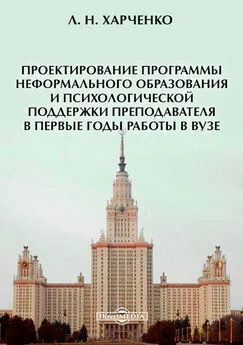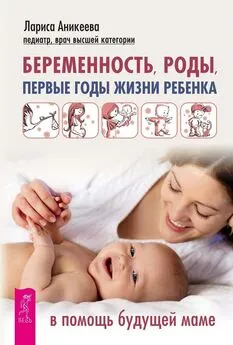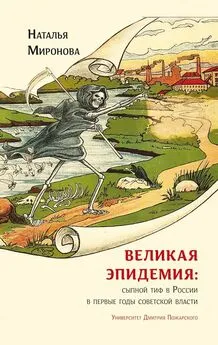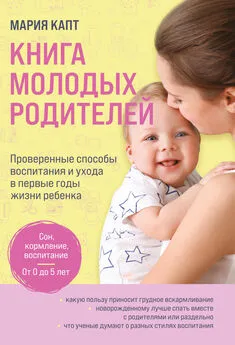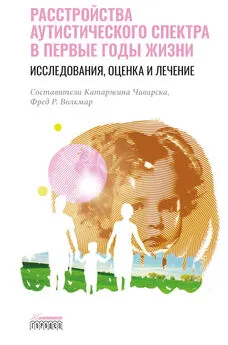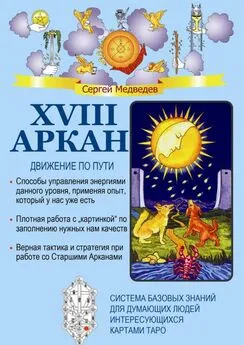Сергей Медведев - Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в.
- Название:Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-235-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Медведев - Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в. краткое содержание
Благодаря привлечению широкого массива архивных источников, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, читатель представит себе атмосферу всеобщей подозрительности начала XX века, узнает интересные подробности из жизни представителей революционного подполья, рабочей среды и, конечно, секретных сотрудников Московского охранного отделения. Книга рекомендована как специалистам, так и самой широкой аудитории.
Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Фёдор Игнатов выступал на районных собраниях общества рабочих механического производства с предложениями, иногда высказывал свое мнение по актуальным проблемам. Так, именно ему принадлежала идея о реализации штрафных капиталов промышленных учреждений Москвы: «На каждом заводе, фабрике накопилось много денег, которые, как известно, в расчетных книжках (что они сберегаются на нужды самих же рабочих). Я думаю, что теперь этих денег накопилось в Москве не менее 200 тысяч рублей, это я основываюсь на том, что, как я слышал, на заводе Вейхельт было за последнее время что-то около 20 тысяч, а во всей Москве капитала штрафного должно быть по моему счету не менее 200 тысяч. Я вполне согласен со Слеповым, что квартиры наши гадки, но как избежать это зло. Я так думаю, нельзя ли из штрафного фонда употребить на постройку дешевых квартир для рабочих» [250] Протоколы заседаний общества взаимопомощи в механическом производстве // История пролетариата СССР. М., 1930. Сб. 2. С. 185.
. Идеи Игнатова отражали взгляды рабочего, которому хотелось вырваться за привычные рамки скромного неприхотливого быта: «…чайные посещаются такой публикой, с которой и наш брат рабочий стесняется сидеть рядом. Желательно было бы, чтобы чайные походили не на трактиры, а именно напоминали бы английские клубы, где можно было бы рабочему человеку отдохнуть после тяжелых трудов, где он мог бы и развлечься игрой какой-нибудь, кегельбаном, например, или биллиардом, почему не так. Хорошо было бы так, чтобы на стенах чайной вместо дешевых картин помещались карты, атласы и картины более серьезного содержания, недурно так-же иметь в них глобусы с соответствующими руководствами к ним… очень мало дешевых словарей, необходимых для рабочих при чтении книг и в особенности газет, сплошь испещренных иностранными словами» [251] Там же. С. 191.
.
Меньщиков об Игнатове упоминает скупо: «…один из деятелей зубатовского общества рабочих в Москве, исполнявший и агентурные поручения охранного отделения, которым выдавалась ему месячная субсидия в размере 30 рублей» [252] ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 375. Л. 327.
. Факт ассигнования 360 рублей в год из сумм охранного отделения на агентурную деятельность человека, который, судя по редким упоминаниям в архивных документах, не являлся первостепенным лидером полицейских обществ, позволяет предположить, что сыскная работа с рабочими являлась одним из самых важных направлений деятельности политической полиции.
Вопрос о единомышленниках С. В. Зубатова остается открытым до сих пор. Очевидно, в условиях периодической обструкции Сергея Васильевича представителями различных эшелонов власти, их не могло быть много. Помимо некоторых рабочих, подпавших под обаяние личности Сергея Васильевича, главу Московского охранного отделения, безусловно, уважали начальник Минского ГЖУ Н.В. Васильев, чиновник особых поручений А. И. Войлошников и глава Летучего отряда филёров Е.П. Медников.
Н.В. Васильев, начальник Минского ГЖУ
Личность Никиты Васильевича Васильева прекрасно характеризует его переписка с товарищем министра внутренних дел князем П. Д. Святополк-Мирским, которая состоялась в июне – июле 1901 г. Уже начало депеши Васильева в Петербург демонстрировало, что ее автор нестандартно и неформально подходит к управлению ГЖУ во вверенном ему округе: «Усматривая из точного смысла 318 статьи Устава о наказаниях, что закон беспристрастно относится как к хозяевам, устраивающим синдикаты для притеснения рабочих, так и к рабочим, я стал знакомиться с ремесленным и фабричным законодательством» [253] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 226. Д. 4. ч. 22. Л. 150.
. Далее следовали обычные для неравнодушного полицейского руководителя того времени сетования на бездействие фабричной инспекции и ее неспособность предотвратить стачки рабочих. Однако на этом Васильев не останавливается и идет в своих размышлениях дальше: «Правительство, руководясь старыми учениями Адама Смита и его последователей, возведшими индифферентность государства по отношению к продолжительности и цене труда в догму, проводило в своей внутренней деятельности политику невмешательства» [254] Там же.
. В подтверждение теории об административной беспомощности в вопросах улучшения быта рабочих начальник ГЖУ рассказал историю о хлебопеках, которые работали 48 часов, а 12 часов отдыхали. Придя к фабричному инспектору с жалобами, они были направлены им к мировому судье, а затем пошли к раввину, и ни один из них не смог решить их проблему. После раввина за дело взялся Васильев, и, судя по его рассказу, только он смог помочь хлебопекам.
За небольшое время пребывания на посту начальника ГЖУ Никита Васильевич установил порядок взаимоотношений с недовольными условиями труда рабочими: «Рабочие какого-либо цеха, нуждающиеся в моей поддержке, являются ко мне, и я при этом им разъясняю вред, который приносят им их нелегальные общества и организации, малый успех их стачек, материальные и нравственные страдания, являющиеся невольными следствиями их нелегальной деятельности, и те возможные улучшения, которых они могут добиться путем легальным. Указываю, наконец, что я могу сделать для них. Рабочие откровенно говорят со мной о своих нуждах и своем положении. Затем я им разрешаю собраться на обсуждение своих дел и для выбора из своей среды наиболее развитых людей, представителей цеха, с которыми я уже имею дело и веду все переговоры: этим выборным рабочие сообщают о своих нуждах для передачи мне. Получив заявление от выборных, в назначенный день я приглашаю выборных и от хозяев, и путем взаимных переговоров устанавливаем возможное, после чего хозяева и рабочие делают уступки с обеих сторон и мирно расходятся, причем согласие их является обязательным для всего цеха» [255] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 226. Д. 4. ч. 22. Л. 153.
. Несмотря на то, что подобными методами Васильеву удалось установить фиксированный 12-часовой рабочий день почти на всех предприятиях Минска, Департамент полиции не дал разрешения продолжать такую «самодеятельность».
Меньщиков описывает Васильева резко неприязненно: «Как человек Васильев являл смесь нахальства, хитрости и тупости – всего в изрядном количестве; изрытая оспинами красная фельдфебельская физиномия с щетинистыми усами и рыбьими глазами вполне отвечала его натуре сыщика, злого, дерзкого, бесцеремонного» [256] ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 375. Л. 132.
. Стоит отметить, что Меньщиков перечислял лишь отрицательные стороны личности начальника минского ГЖУ, абсолютно игнорируя положительные. Эпитеты, описывающие лицо, явно намекали на пороки Васильева: пьянство, обжорство, ограниченность. Говоря о профессиональной деятельности Васильева, Меньщиков также не мог сдержать презрения: «…в угоду Зубатову разводил независимых, после многочисленных обществ хвалился в 1903 году: теперь у меня в руках вся минская организация» [257] ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 375. Л. 132.
.
Интервал:
Закладка: