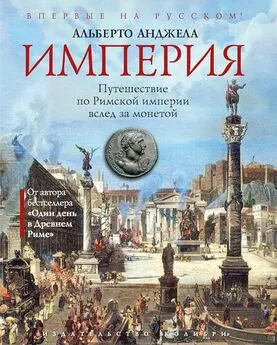Михаил Ростовцев - Общество и хозяйство в Римской империи. Том I
- Название:Общество и хозяйство в Римской империи. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-02-026813-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ростовцев - Общество и хозяйство в Римской империи. Том I краткое содержание
Общество и хозяйство в Римской империи. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
200
Хорошее исследование о мозельских памятниках в виде колонн и их скульптурных украшениях представляют собой работы Ф. Дрекселя (Drexel F. Die belgisch-german. Pfeilergraber; Idem. Die Bilder der Igeler Saule // Rom. Mitt. 1920. 35. S. 26 ff., 83 ff.). Все скульптуры мозельского типа, включая те, что имеются в Арлоне и Люксембурге, можно найти у Эсперандье (Esperandieu Е. Recueil des basreliefs, statues et bustes de la Gaule romaine. 1913. VI; cp.: Dragendorjf H., Kruger E. Das Grabmal von Igel (Rom. Grabmaeler des Mosellandes und der angrenzenden Gebiete. 1924.1) и в Germania Romana. III; cp.: Massow W. von. Die Wiederherstellung der Neumagener Denkmaler // Jahrb. 42. 1927. Arch. Anz. Sp. 182 ff. Однако в своей оценке и толковании рейнских и мозельских скульптур Ф. Дрексель допускает ошибку. Основная идея надгробий римского периода, на которых изображаются бытовые сценки из повседневной жизни, заключается не в свойственном нуворишу хвастливом желании выставить напоказ свое богатство и власть над окружающими людьми, как полагает Дрексель. Основная задача этих изображений заключается в том, чтобы выразить сложившийся под влиянием неопифагорейского учения стоический религиозный и нравственный идеал образованных классов населения империи: только благодаря образцово прожитой жизни, увенчавшейся заслуженным успехом, благодаря строгому выполнению долга, о чем рассказывают изображения монумента, его хозяин заслужил право на завершающий «апофеоз». Та же идея лежит в основе выбора рельефов, украшающих прекрасные колонны Траяна и Марка Аврелия; она же вдохновляла создателей надгробных памятников римских солдат и офицеров и магистратов муниципиев при отборе скульптурных и живописных изображений (к ним относится, например, цикл картин, которыми украшены стены гробницы одного помпейского эдила, много лет назад открытой близ Везувианских ворот, но до сих пор остающийся неопубликованным); и наконец, той же идеей пронизаны все надгробные надписи и элогии аристократов Римской империи, в которых подробно перечисляются военные и гражданские должности покойного. И роскошные монументы магнатов Мозельской области, и скромные cippi галльских ремесленников с их реалистическими скульптурами, изображающими обыденную работу умершего, являются типичным выражением глубокого уважения к труду, который сознавался не как горькая необходимость, а как социальный и религиозный долг, — идеал, диаметрально противоположный идеям римской аристократии I в. до Р. Х.; вспомним хотя бы Цицерона, который считал, что торговля и промышленность оказывают вредное влияние на характер человека, и видел главную цель человеческой жизни в досуге. Идеальное представление о «святости труда», которое не было новостью для греческого мира (см.: Zielinski Т. Religion of Greece. 1926. Р. 39 sqq.), несомненно, полностью соответствовало киническому и стоическому идеалу императорской власти, о котором я говорил в гл. IV и который также был создан стоической и кинической философией в соответствии с целями и методами просвещенной монархии. Привести в подкрепление этого рассуждения цитаты из сочинений философов-стоиков периода Римской империи не составляет труда. С другой стороны, предпочтение, отдаваемое реалистическим изображениям в живописных и скульптурных украшениях, отнюдь нельзя считать особой чертой Галлии и кельтской нации. Греки Ионии, не говоря уже о народах Востока, любили изображать такие сценки на различных произведениях своего искусства, в особенности это относится к архаическому периоду. Эту черту они передали затем этрускам и самнитам, от которых она перешла к римлянам и превратилась у них в одну из важнейших отличительных особенностей римского искусства. На Востоке же в эпоху эллинизма и Римской империи реалистическая традиция не сохранилась, вместо нее одержали верх другие стороны художественного творчества. Тот факт, что надгробия с изображением бытовых сцен обыденной жизни — в частности таких, которые относятся к хозяйственной деятельности: сельскому хозяйству, торговле и ремеслу, — раньше всего стали типичны для Средней Италии и Галлии (Gummerus Н. Jahrb. 1913. 28. S. 67 ff.), еще не дает основания говорить об особенностях художественного восприятия этих стран, просто это искусство отражает характерную сторону жизни их населения, его коммерческие и промышленные занятия. Поэтому надгробные памятники Северной Италии и Галлии являются одним из важнейших источников наших знаний об экономической и социальной жизни этих областей Римской империи. Выбор тех или иных эпизодов быта и хозяйственной деятельности определяется, конечно, не только характером самой жизни, но и художественными традициями, свойственными искусству надгробий. Важное место здесь занимают сцены путешествий и пиров, которые с незапамятных времен служили символами последнего пути и загробного пира блаженных (beati), а когда на надгробных стелах солдат и офицеров мы видим в основном сцены сражений, это вполне соответствует древнегреческой традиции: в ней охотно изображались сцены великих победоносных битв, в которых сражались обожествленные герои. Искусство надгробных памятников рейнских и мозельских земель — вовсе не искусство богатых парвеню (как выразился о нем Дрексель), а здоровый и сильный опыт создания реалистического искусства по этрусскому и италийскому образцу. Об «апофеозе» и связанных с ними идеях см.: Della Seta F. Religione ed arte flgurata. 1912. P. 175 sqq.; Mrs. A. Strong. Apotheosis and After Life. 1915. P. 174 и замечательные очерки Ф. Кюмона: Cumont F. After Life in Roman Paganism. 1922.
201
Об Арелате и Нарбоне и о буржуазии этих городов см. статьи Эрона де Випьфосса (Heron de Villefosse) и книгу Л. А. Констанса (L. A. Constans).
202
Хороший общий очерк внешней торговли Египта и его торговли с другими римскими провинциями дан в работе: Louis С. West. Phases of commercial life in Roman Egypt // JRS. 1917. 7. P. 45 sqq. Приходится только сожалеть о том, что эта работа представляет собой всего лишь фрагмент. В ней представлен только перечень товаров, экспортировавшихся из Египта за границу, и этот перечень не так полон, как тот, что можно найти у М. Хвостова. Отсутствует перечень товаров, которые экспортировались из Египта в другие провинции. Ср.: Charlesworth Μ. Р. Trade routes and commerce of the Roman Empire. P. 16 sqq. О египетском торговом пути через пустыню см.: Murray G. W. The Roman roads and stations in the Eastern Desert of Egypt // JEA. 1925. 11. P. 138 sqq.
203
Cм.: Parvan V. Die Nationalitat der Kaufleute usw. S. 79 ff. Классический образец хитрого и удачливого восточного купца мы видим в лице Флавия Зевксида из Фригии. Он семьдесят два раза плавал из Малой Азии в Рим (см.: Dittenberger. Syll. 3 1229). Менее известен другой купец и navicularius — Флавий Лонгин из Диррахия. В своей надписи, украшенной изображением парусника, он говорит: έγώ δέ πολλά περιπλευ[σαςέ] πολλές έξουσείες I [ύπ]ηρετήσας [ я, совершив много плаваний и исполнив много магистратур (греч.)] (Cм.: Praschniker C., Schober A. Archaologische Forschungen in Albanien // Schriften der Balkan-Kommission. 1919. 8. S. 45. № 57, 57a. Z. 9 ff.). Его греческий язык убог, он наверняка не принадлежал к числу образованных людей, однако его замечание об услугах, которые он оказал своему городу в качестве магистрата, говорит о том, что он был богатым и влиятельным человеком. Еще один богатый судовладелец — Л. Эраст из Эфеса, который неоднократно оказывал услуги римским наместникам Азии и дважды перевозил на собственном корабле императора Адриана в Эфес и обратно; см.: Dittenberger. Syll.3 838 (129 г. по Р.Х.). Забавно выглядит одна надгробная надпись из Эдепса (IG. XII, 9, 1240; ср.: Preuner Е. Jahrb. 1925. 40. S. 39 ff.); ее персонажем является некий naukleros из Никомедии, который окончил жизнь как κυβερνήτης (или, может быть, он хочет сказать, что теперь пустился в новое плавание к подземному миру?). Сам он говорит о себе так: Διογενιανός Νειχομη-δεύς… πολλά περιπλευσας πρότερον ναύκληρων ε ιτα το νΰν χυβερνών χτλ [ Диогениан из Никомедии… совершив много плаваний, сначала будучи судовладельцем, а затем и кормчим (греч.)]. — и присовокупляет к сказанному следующий совет: ζών χτώ χρώ [ живя, приобретай, пользуйся! (греч.)]. Выразительное свидетельство оживленной морской торговли во времена империи представляют собой надписи на утесе небольшой гавани в районе Акрокеронских гор в Македонии, где моряки, спасенные Диоскурами, увековечили свою благодарность в многочисленных надписях на греческом и латинском языке; см.: CIL. 1824–1827; CIL. III, 582–584; Heuzey, Daumei. Mission archdologique en Macedoine. P. 407; Patsch C. Das Sandschak Berat in Albanien // Schriften der Balkan-Kommission. 1904. 3. S. 91 ff.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
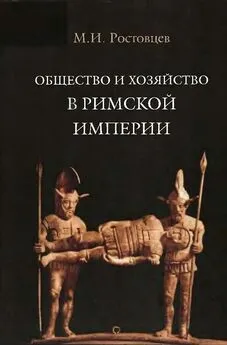

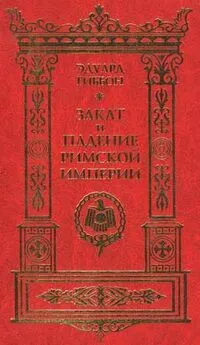



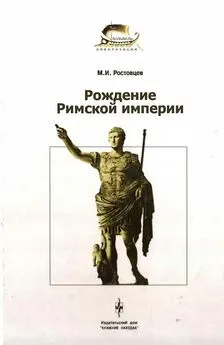
![Питер Браун - История частной жизни Том 1 [От римской империи до начала второго тысячелетия]](/books/1084366/piter-braun-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-1-ot-rimsko.webp)