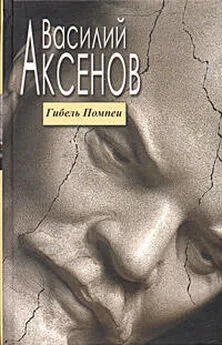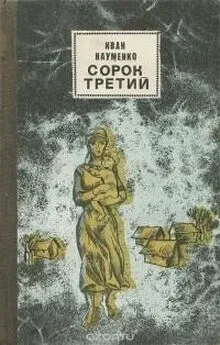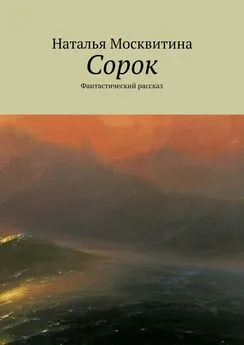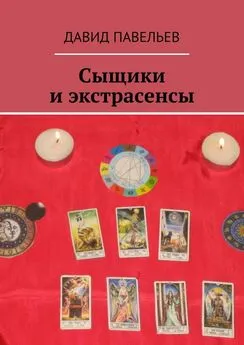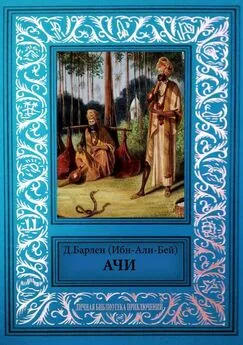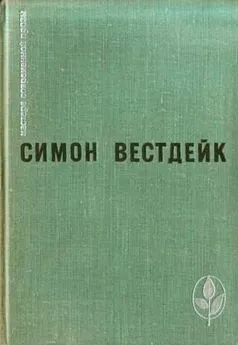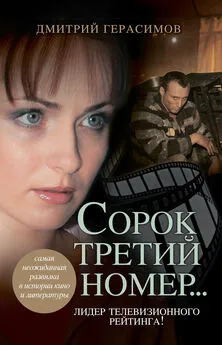Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Речь идет о солдате Евгении Ивановиче Чугункове. Он воевал с немцами еще в ту войну и заслужил «Георгия». В эту войну — орден Красного Знамени. Коммунист с тридцатого года. Должности у него нет никакой — рядовой в пехотном взводе. Свою задачу он понимает просто — учить новичков и своим примером, и добрым словом. И делает он это не по инструкции или директивам бюро, а по велению своего сердца.
Нет, это не иконописный портрет, а человеческий образ, образ фронтовика. Вот его разговор с солдатом, сценка с натуры:
«Красноармеец Волков долгое время не мог преодолеть робость в бою. Чугунков заметил это и однажды во время перекура подозвал его к себе.
— Иди-ка сюда. Садись, закуривай. — Чугунков свернул папироску и с хитрецой, посмеиваясь в усы, заговорил:
— Ты что-то, парень, замечаю я, вроде как бы того… Немного робеешь в бою, а?
Лицо красноармейца покрывается густым румянцем.
— А что? Разве заметно?
— Да, замечаю. Но это ничего: не ты первый, не ты последний, — он пускает через нос синеватую струйку дыма. — Махорочка хороша, прямо душу очищает…
С минуту они сидят и курят молча. Потом Чугунков опять возобновляет прерванный разговор:
— Ты, молодец, пойми одно — чем спокойнее, чем смелее человек в бою, тем у него больше козырей в жизни. Это уж точно. А смерти бояться не надо. В бою не теряйся, приноравливайся к местности. Следи, куда немец бьет, куда мины ложатся. Еще одно: надо в себе уверенность иметь… А в следующем бою держись ко мне поближе. В случае чего я тебе помогу».
И действительно, в очередном бою Чугунков украдкой наблюдал за молодым бойцом и репликами подбадривал его:
— Как дела, крестник?
— Налаживается, товарищ Чугунков.
— Ну, ну, смотри. Расти, парень…
Так он учит новичков, с тактом, без унижения личности, доброжелательно.
Кстати, замечу, что не раз газета выступала на эту жгучую тему — о трусости и храбрости. Писали об этом Константин Симонов, Василий Гроссман, Андрей Платонов, Петр Павленко. Каждый по-своему. По-своему выразил свои думы и рядовой Василий Чугунков.
Наш спецкор В. Кудрявцев для своей корреспонденции нашел животрепещущую тему. Это — «Письма о награждении». В одном из стрелковых полков замполит установил и строго выполняет благородное правило: отличился боец, получил награду — в тот же день отправляется письмо его семье. В нем поздравление и короткий рассказ о подвиге награжденного. Надо ли объяснять, какие чувства вызывают эти письма дома и у самого бойца! Пример, достойный подражания!
Из писательских материалов отмечу взволнованный очерк Саввы Голованивского «В Карпатах» — о подвиге священника прикарпатского города Рахова, погибшего от пули немецкого наймита. Должен отметить, что о религиозных служителях мы в газете почти не писали. А между тем в эту войну они проявили себя истинными патриотами, своим оружием сражались с немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками доблестно и самоотверженно. Тем и впечатляет рассказ Голованивского.
Напечатал свой рассказ «Времена года» Лев Никулин. Это повествование с очень сложной фабулой о любви капитана и медицинской сестры, выдержавшей много испытаний на фронтовых путях. Написанная сочным языком, новелла рассказывает о многих неожиданных ситуациях и больших испытаниях, через которые их любовь прошла и победила.
Свое отношение к фронтовой любви, о которой порой говорили с оттенком иронии, писатель выразил в заключительных строках: «Пройдут годы, думал Арсеньев, дети и внуки будут вспоминать ту небывалую войну и то, что было в наше время. Надо, чтобы они знали, что в эти годы не умирала любовь и была наградой тому, кто не знал страха смерти, был верен Родине и своей любви».
Алексей Сурков написал «Стихи о России», где есть такие строфы:
Еще не кончен ратный труд.
Немалый путь полкам пройти.
И тысячи еще падут,
Не увидав конца пути.
Но издревле бывало так
И ныне повторится вновь
Стократ заплатит кровью враг
За нашу жертвенную кровь.
По следу отгремевших гроз
Придут покой и тишина.
Восстанешь ты из моря слез.
Несокрушима и сильна.
Далеко-далеко до завершения битвы с врагами. Но наш народ и, конечно, писатели и поэты думают и мечтают о нем…
9 июня.Борис Галин и Яков Халип в дни наступления наших войск наткнулись в Сальской степи на такую картину. Среди лужайки, окаймленной редколесьем, выстроились бойцы. К ним приближались несколько человек. Они несли развевавшееся на ветру знамя. Справа от знамени шагал офицер, а слева старик в гражданской одежде. На пиджаке у него — гвардейский значок и орден Красного Знамени. Спецкоры стали гадать: кто же он? Может, партизан, примкнувший к полку? Может, делегат казачьей станицы? Откуда гвардейский значок? Они узнали необычную историю.
Началась она в августе сорок второго года во время нашего отступления на Северном Кавказе. На 153-м километре Сальской степи 43-й гвардейский полк «катюш», окруженный немецкими танками, пробивался из вражеского кольца. Штабные Машины были отрезаны от своей части и попали под сильный огонь врага. В машине начальника штаба майора Калинина находилось полковое знамя, завернутое в чехол. Смертельно раненный майор успел передатьчзнамя капитану Леонову, а когда тот погиб, знамя взял старший лейтенант Басовский. Из рук убитого старшего лейтенанта знамя поднял красноармеец Синдяков. Он передал его лейтенанту Грамашову и, жертвуя собой, задерживая немцев огнем, дал возможность лейтенанту скрыться в лесопосадке.
Грамашов провел здесь ночь, а утром выбрался по косогору на глухую тропу к маленькому хутору. Он постучался в окно крайней хаты. Оттуда вышел человек в годах, с проседью в висках. Это был колхозный пастух Стерлев Андриан Макарьевич. Он, увидев лейтенанта, втащил его в хату и прежде всего, ничего не спрашивая, вынул пиджак, штаны, косоворотку и сказал:
— Залезай. Это моего сына Мефодия, он тоже на войне. Да быстрей, немцы могут заскочить…
Переоделся Грамашов, а потом, рассказав, что произошло на 153-м километре, вынул из полевой сумки полковое знамя:
— Отец, можешь спрятать? Побереги, погоним немца и вернемся за ним.
Старик долго молчал. Он аккуратно свернул знамя, прижал к груди и произнес фразу, которая все объяснила:
— Знамя русское, и я русский…
Вышли они в сад. Там под яблоней вырыли ямку, выложили сухой соломой. Дед завернул знамя в чистое крестьянское рядно и накрыл копной соломы. На рассвете лейтенант Грамашов, переодетый в крестьянскую одежду, вышел из хаты и пошел на восток. Но за хутором был схвачен немцами. Его избили и увели с собой.
Остатки полка прорвались из окружения. Никто не знал, где знамя. Оно считалось утерянным. Полк расформировали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: