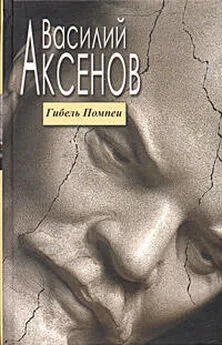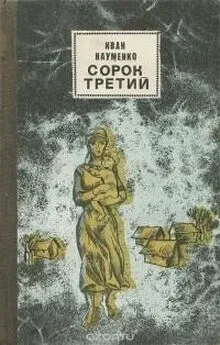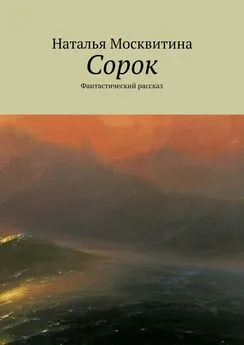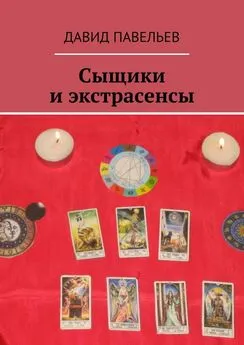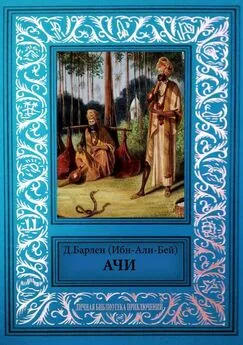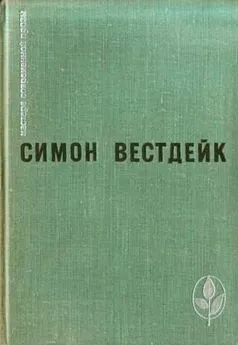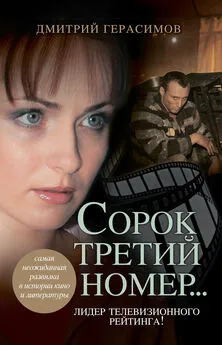Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
12 июня.Почти в каждом номере на одном и том же месте — вверху третьей полосы — сообщения о налетах нашей авиации на железнодорожные узлы и станции многих городов — Гомеля, Орла, Брянска, Днепропетровска, Смоленска, Киева и налетах немецкой авиации на Волхов, Горький, Саратов, Ярославль. Больше всего налетов противника на Курск.
Это самые горячие точки войны. Все наши краснозвездовские авиаторы — там, где идут воздушные бои. В газете об этом репортажи, корреспонденции, статьи тактического характера. Занялся авиацией и Андрей Платонов. Обычно он в пехоте и присылает большие материалы на три и четыре колонки. А на этот раз прислал так называемую оперативную корреспонденцию строк на сто под заголовком «Земля и небо Курска».
Платонов — на КП авиационного соединения, наблюдает воздушный бой, слышит команды, видит всю «кухню» этих дел:
«Июньская ночь коротка для затяжного мощного боя. Сражение вышло в утренний рассвет, и теперь битву можно было уже наблюдать глазами. Вот с большой высоты один за другим падают три немецких самолета. Позже нам сообщают, что их сбил всего один человек — капитан Романов, истребитель. Он сперва сшиб последовательно в воздухе пулеметными очередями две машины врага, потом у него истощился боезапас, и тогда капитан протаранил живым ударом своей машины третий самолет противника».
Ну что ж, обыкновенный репортаж, непривычный и для Платонова, и для нас, — мы знали лишь его рассказы и очерки. Он рассказывает об одном удивительном эпизоде:
«Два наших самолета «Лавочкин-5» взяли в клещи одного «мессера» и повели его между собой. «Мессер» выжимал из себя максимальную скорость, перегревая мотор на предельных оборотах. Наши же «Ла-5» шли без напряжения, имея в моторах запас мощности и, стало быть, скорости. Это настолько радовало наших летчиков, что они на некоторое время отсрочили гибель врага, желая, по-видимому, посоревноваться с ним ходом машин, но командиру, который увидел с земли столь странное соревнование, это не понравилось.
И начался диалог между ним и летчиками».
Андрей Платонович услыхал его и запомнил:
— Чего медлишь, «Береза»? — это говорит командир.
Отвечают с неба:
— А пусть он пропотеет, товарищ командир. Мы его добьем.
— Запрещаю этот пот, — приказал командир. — Одного пота — это мало ему.
— Сейчас добавлю, товарищ майор, — сказал летчик с высоты и в мгновенном маневре расстрелял «мессер».
Еще об одном удивительном эпизоде рассказал писатель. Это было в те же сутки воздушного сражения в районе Курска. «Все жители стояли поутру на улице. Люди то вскрикивали от радости, то затихали в безмолвии. Они смотрели битву в воздухе наших истребителей с машинами противника. «Мессершмитты» охраняли завывающие, тяжело нагруженные бомбами «юнкерсы», идущие потоком над нашей землей. Один наш истребитель пробился к двум «юнкерсам», шедшим рядом, один к другому, телом к телу, обогнал их, как стоячих, сделал фигуру и дал долгую одинокую очередь. Оба «юнкерса» задымились и пали к земле, сраженные одной очередью одного самолета. Это был редкий удар, может быть, почти случайность, но тут случай попал на мастера, и мастер сумел им воспользоваться!
Давно уже Илья Эренбург не появляется на страницах «Красной звезды» — более двадцати дней. Для нас и для читателей, привыкших видеть его статьи каждый день или через день, действительно давно.
Илья Григорьевич сидит у меня в кабинете в глубоком кресле, дымит своей трубкой и молча наблюдает, как на столе шуршат рукописи и гранки.
— Илья Григорьевич, бастуете? — нарушаю я тишину.
— Да, у вас в «Звезде» забастуешь.
— Где же ваши статьи?
— А о чем писать, когда «ничего существенного» на фронтах не произошло?
«В самом деле, о чем ему сейчас, в затишье, писать?» — задумался я. Но ведь само затишье тоже тема для газеты. Предлагаю ее Эренбургу..
— Хорошо, — соглашается писатель. — Напишу о затишье.
На второй день приносит большую, на две полных колонки, статью под названием «Ожидание». Его статья — мои «мучения». Печатал он их на своей «короне» — машинке с одними, словно с телеграфной ленты, прописными буквами — и правил таким закрученным почерком, к которому даже за два года нашей совместной работы привыкнуть не могу. Но прочел, кое-что по взаимно-му согласию поправил. И — в набор!
Что готовит нам в затишье враг, чем может разрядиться затишье? — задается он вопросом, который сегодня не дает покоя многим.
«Мы знаем, что Гитлер может попытаться где-нибудь пробить нашу оборону, прорваться вперед. Он может испугаться гниения в стоячей воде германской армии. Он попытается хвастливыми сводками подкрепить свой авторитет. Он прежде всего бесноватый, об этом не следует забывать. Он действует по тому наитию, которое однажды его привело в Сталинград и в Африку. Он способен на любую нелепость, даже теперь он способен предпринять наступление».
Эренбург предостерегает читателей: не поддаваться затишью, не верить тишине.
«Тишина томит наше сердце — не сомнениями, но ненавистью. Когда тихо кругом, когда солнце на небе и земля в изумрудном облачении, еще пуще разгорается огонь гнева. Мы сражаемся за самое большое благо: за свободу… Еще год тому назад ненависть была нам внове. Она клокотала в нас, мы от нее задыхались. Теперь мы выстрадали холодную, зоркую, справедливую ненависть этого лета… Еще крепче стали наши полки. Еще ближе день победы. Тишина насыщена ожиданием. Немцы ждут теперь расплаты. Наступая, отступая или зарывшись в землю, они видят перед собой одно: смерть. Мы тоже ждем. Но мы ждем другого: свободы для пленных сестер, справедливости для мира, победы для исстрадавшейся России».
Я привел только две выдержки. Но в статье много и других предсказаний о том, что же ожидает и гитлеровскую клику, и заправил рейха, и солдат, и население Германии, и ее сателлитов. А о них такие строки: «Италия потеряла все и не сегодня завтра Германия потеряет своего первого вассала… А где венгры?.. Даже румыны, стали редкостью, как старинные монеты…»
Прозорливо смотрит писатель в будущее!
Только успели напечатать стихи Александра Безыменского «У кургана» — он прислал очерк «Агитатор». Не в первый и не в последний раз «изменяет» он поэзии и ударяется в прозу. Этим «грешат» и Симонов, и Сурков, и Сельвинский, и другие поэты. Фронтовая жизнь столь сложна и быстротечна, что порой неизбежно приходится поэтам обращаться к другим жанрам.
Материал для «Агитатора» автор почерпнул из политотдельской и партийной жизни. Безыменский хорошо ее знает. Всю войну он провел в действующей армии. Вначале работал в армейской газете. Оттуда его перевели во фронтовую. Но там он не усидел — хотел быть ближе к войскам и выпросил назначение в 3-ю гвардейскую танковую армию генерала П. С. Рыбалко.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: