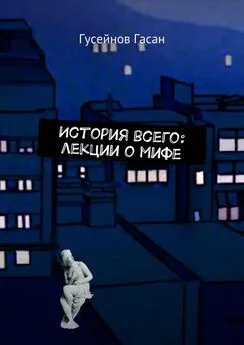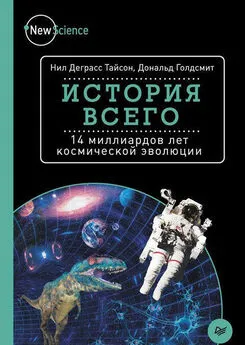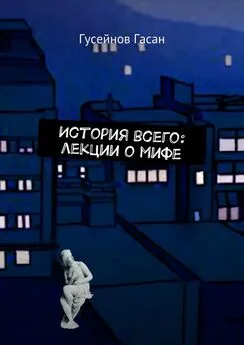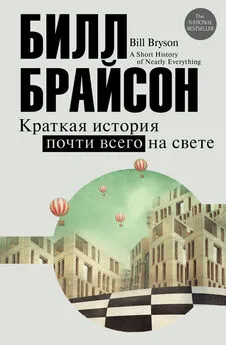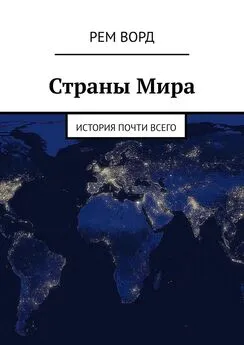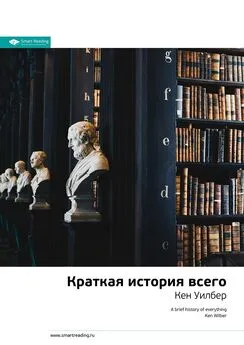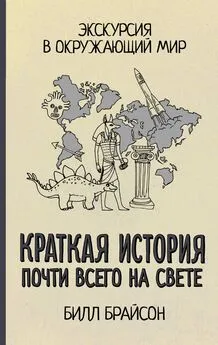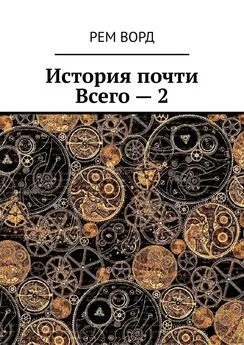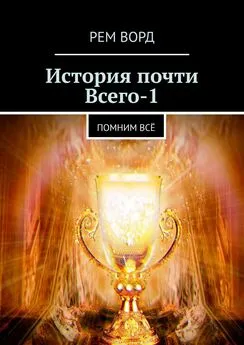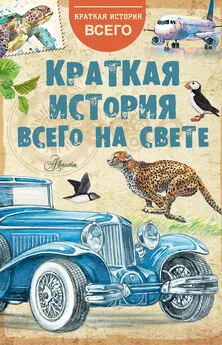Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе
- Название:История всего: лекции о мифе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-4105-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе краткое содержание
История всего: лекции о мифе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наконец, последний — третий пример того, как письменная традиция переиначивает на свой лад дописьменный семиозис, — рассказ Геродота о выдумке Гистиея: желая передать из Сус в Милет тирану Аристагору призыв поднять восстание против Дария, этот Гистией обрил своего вернейшего раба, вытатуировал на его голове (την κεφαλήν εστιξε) свое послание, дождался, пока отрастут волосы, и через кордоны (φυλασσομένων τών όδών) отослал раба в Милет с единственным поручением — просить Аристагора обрить его и осмотреть голову, знаки на которой обозначали восстание (τα δέ στίγματα ἐσήμαινε ἀπόστασιν). Несмотря на извечное и повсеместное употребление татуировок в качестве средства хранения наиболее значимой информации, а также легкость, с которой в целях конспирации обритая голова слуги была б немедленно по прочтении отрублена, все же данное сообщение Геродота не выдерживает критики, ибо тавтологизирует сам по себе достаточно значимый акт. Любопытны следы, выдающие в этих «знаках» (στίγματα) протезы: уточняя имевшееся в его руках сообщение, Геродот в трех фразах пять раз повторяет глагол σημαίνω, сопровождая сказанное личным клеймом-оговоркой «как я говорил выше» (ως και πρότερον μοι εΐρηται).
Правда, во всех трех случаях мой аргумент, как всякий аргумент ad hominem, страдает недоказуемостью. Но зато он определенно опирается на узус. Суть этого узуса в том, что пользование словом в предписьменных культурах — едва ли не самая опасная из житейских и полисных процедур. Вес слова здесь неизмеримо выше, чем в последующие эпохи торжества письменности. Вот почему его предпочтительней скрыть за вещью: Геродоту такая установка уже чужда.
Много сказано и написано о древнегреческом переживании времени как циклического замкнутого пространства, совсем не приходится слышать о неимоверных возможностях, предоставляемых такой картиной мира словесному творчеству. Ведь тут любая вещь может быть расценена как знамение, нуждающееся в истолковании, а речь — как прорицание, все равно, говорится ли в ней о невероятном побочном следствии грядущих событий («Колиадские жены ячмень будут жарить на веслах»: это произойдет после того, как шторм прибьет обломки персидских кораблей к аттическому берегу) или невероятном условии неизбежных напастей (например, оракул Крезу, посуливший ему конец царствования в случае, если правителем мидян станет мул, т. е. Кир). Угаданное, умом добытое или правильно истолкованное слово тождественно подлинному овладению ходом событий, самой судьбой. Именно слово снимает пресловутый фатализм, якобы присущий мышлению античного человечества.
Сами события кажутся призванными для того, чтоб оправдать одни и не оправдать другие словесные ожидания. Любое, даже самое безобидное, высказывание имеет шанс задним числом оказаться пророчеством, случайно произнесенное имя становится ключевым знамением.
Зеркальная сторона этого узуса — истолкование знамений и сновидений, настойчивое словесное оформление смутных видений и разгадывание сложных загадок. Историк должен обратить внимание на воплощенные в этом явлении черты первобытного сознания, филолог не может не погрузиться тут в атмосферу глубочайшей веры предписьменного человечества в мощь словесного искусства, которое обращает случайный знак в повествование, истолкованием закрепляя случай как неотторжимое звено в цепи событий.
Незаметное сведение загадочных изображений (εἴδωλα) к буквам (γράμματα), а истолкования — к чтению — это лишь свидетельство наступления новой эпохи, представители которой склонны к реалистичным оценкам (Геродот понимает, что сновидения — плод вчерашнего опыта), но как честные дети своих отцов не способны на злонамеренное искажение традиции (Геродот верит в бороду, вырастающую у жрицы Афины, когда педасийцам грозит беда). Вот почему в иных случаях подбирающий сугубо «рациональные» доводы к истолкованию политических и иных событий. Геродот предельно внимателен и к прорицанию, и к истолкованию, и к прорицателям, и к истолкователем знамений и пророчеств.
Для Геродота, как и для историка литературы, прорицатель и истолкователь — не просто лица, достойные уважения, но прежде всего — поэты и ораторы. Эфемерность их художественной продукции, утилитарность целей, коррумпированность отдельных мастеров жанра не могут заслонить от нас этого простого обстоятельства. Такими же поэтами были и Солон и Тиртей. Поэт-дифирамбограф Симонид Кеосский, в своих стихах прославлявший павших и победивших, пишет эпитафию поэту-прорицателю Мегистию как собрату, обслуживавшему ту же аудиторию до того, как случилось имеющее быть воспетым им, Симонидом. Поэт-дифирамбограф Лас из Гермионы, соперник Симонида «при дворе» Гиппарха, соперничал там же, в Афинах, с поэтом-прорицателем Ономакритом, которого он уличил в приписывании Мусею доморощенных пророчеств. Ономакрит был изгнан из Афин, но не перестал быть прорицателем и с успехом выступал в Сусах, где Ксерксу «пел свои пророчества» (χρησμωδέων), а изгнанников из Афин и Фессалии (писистратидов и алевадов) потчевал сентенциями (γνώμας).
Впрочем, уже упомянутое имя поэта-пророка Мусея делает излишним обзор поэтического творчества прорицателей, как и убеждение кого бы то ни было в том, что прорицание — особый и весьма уважаемый жанр древней греческой словесности.
Нам теперь важней другая сторона дела, прозаический оттиск этой же жанровой формы — истолкование прорицаний и знамений 42 42 О том, чтоб вовсе не истолковывать пророчество или знамение, не могло быть и речи. Гиппарх не просто «не обратил внимания» на вещий сон, но его «отговорили» (άπειπάμενος) от этого видения онирокритики, попросту не справившиеся с задачей. В этом же смысле нужно понимать слова Геродота о Писистрате, который, «овладев» предсказанием, «поняв» его (συλλαβών τό χρηστήρΐον), «сказал, что доволен таким прорицанием» (φας δέκεσθαι τό χρησθέν). Непризнание прорицания во всяком случае нуждается в предварительном истолковании.
. Для представителя письменной культурной традиции несущественно, идет ли речь об истолковании пророчеств (λόγια, χρησμολογίαι), намекающих на приметы события, или об истолковании самих примет-знамений. Когда геродотовские Дарий и его первый визирь Гобрий готовились к решающему сражению с воинством скифов, тамошние цари «прислали Дарию вестника с дарами: птицей, мышью, лягушкой и пятью стрелами. Персы стали спрашивать у гонца, в чем смысл (νοον) принесенных даров. Тот ответил, что. ему велено только передать их и тотчас возвращаться: персы, мол, сами достаточно мудры, чтоб понять, что говорят дары (γνώναι τόθέλει τα δώρα λεγειν). Услышав это, персы стали совещаться. По мнению Дария, это означает (είκάζων), что скифы сдаются ему сами вместе с землей и водой, ибо мыши, роясь в земле, кормятся тем же, чем человек, лягушка обитает в воде, птица похожа на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от борьбы. Такого мнения держался Дарий, но против него высказался Гобрий, так истолковавший смысл даров: „Если вы, персы, не вспорхнете, как птицы, в небо, как мыши, не зароетесь в землю, как лягушки, не ускачете в болота, вы не вернетесь назад, пораженные этими стрелами!“ Так персы толковали дары (букв.: означивали дары, τα δώρα εϊκαζον)».
Интервал:
Закладка: