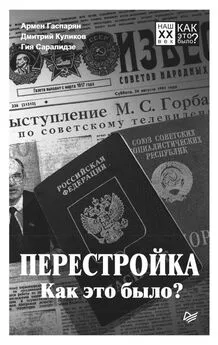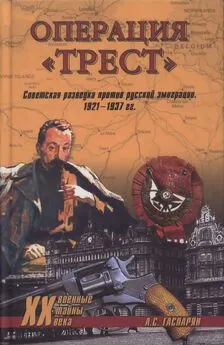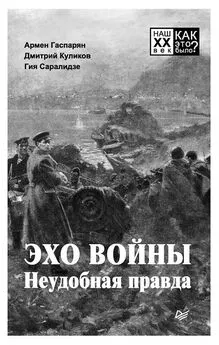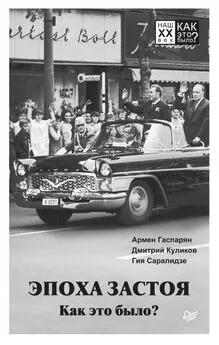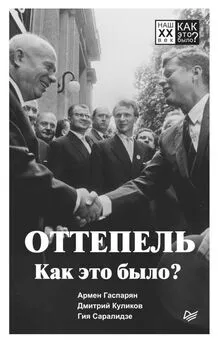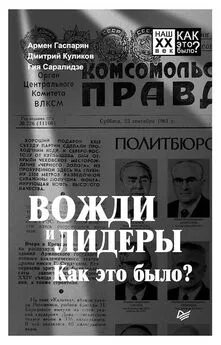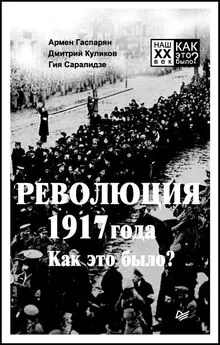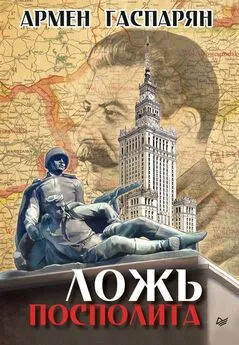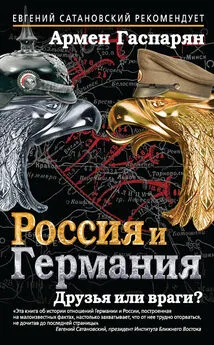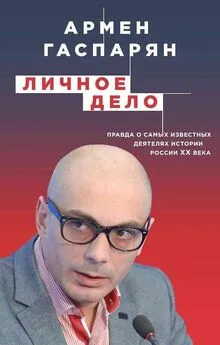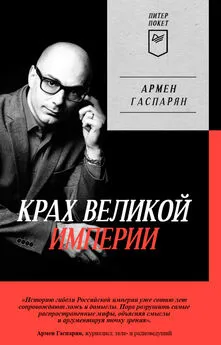Армен Гаспарян - Перестройка. Как это было?
- Название:Перестройка. Как это было?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Питер
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4461-1041-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Армен Гаспарян - Перестройка. Как это было? краткое содержание
• Что привело к необходимости такого масштабного реформирования страны?
• Были ли альтернативные варианты?
• Можно ли было избежать распада СССР?
Об этом и многом другом читайте в книге «Перестройка. Как это было?»
Перестройка. Как это было? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Д. Куликов:
Это суть ситуации: хотелось чего-то другого. Слово «чего-то» замещает все!
А. Гаспарян:
Спустя тридцать лет мы сами не можем сформулировать, чего же нам хотелось.
Д. Куликов:
Судьба шахтеров дорогого моему сердцу Донбасса очень показательна. Шахтеры – элита рабочих. И по снабжению, и по зарплате, и по всему остальному. И они же стали двигателями развала.
Первый съезд народных депутатов: общество оказалось не готово
Г. Саралидзе:
В марте 1989 года состоялись выборы делегатов Первого съезда народных депутатов СССР. Избирателям впервые предоставили выбор между несколькими кандидатами. И первый раз в СССР происходило обсуждение различных предвыборных программ, в том числе, кстати, проводились теледебаты. Съезд открылся 25 мая 1989 года. Заседания транслировались в прямом эфире и вызвали небывалый ажиотаж. Мы вот с Димой смотрели его в общежитии Московского государственного университета. Армен, я так понимаю, был школьником тогда, но тоже…
А. Гаспарян:
Смотрел на даче во время летних каникул. Вместе со всей семьей.
Г. Саралидзе:
Давайте вначале разберемся, что это было? Почему это вызвало такой интерес?
Д. Куликов:
Мне кажется, что у Горбачева, когда он начинал дело под названием «перестройка», никакого плана действий не было. И даже целей не было. А поскольку было непонятно, что делать, создавали всякие фиктивные институты вроде этого съезда. Сначала изменили Конституцию СССР для того, чтобы можно было его провести. Депутаты избирались следующим образом: 750 человек от территориальных округов, 750 человек от национально-территориальных избирательных округов и 750 депутатов от общесоюзных общественных организаций.
Съезд, повторю, был фиктивным институтом, но при этом он оказывал влияние на обстановку в стране. К компетенции съезда отнесли формирование правительства, формирование основных положений и курса развития страны… А партия этих функций лишалась. Что же получилось? Вместо того чтобы развивать партию до полноценного политического института и внутри нее, как в закрытой лаборатории, проводить все эксперименты, учиться демократии, не распространяя ее на все общество – пока еще незрелое, неготовое, неспособное во многом, Горбачев сделал обратное – он партию фактически ликвидировал, став популистским народным лидером… И президентом – только уже без полномочий, потому что у партии полномочия забрали, но Горбачеву на съезде их не передали – в этом заключалась, так сказать, ловушка, в которую он попал. Увлечение фиктивно-демонстративными действиями, которые оказали решающее воздействие на подлинные механизмы управления, – вот что это было.
А. Гаспарян:
На мой взгляд, сказалась родовая травма первых лет советской власти. Тогда внутри партии шла жесточайшая полемика абсолютно по любому вопросу, неважно, что выносилось на политбюро; потом Сталин волевым решением это прекратил. А Горбачев объявил гласность. Казалось бы, говорите, о чем хотите. Но Дмитрий же абсолютно правильно озвучил ключевой момент: общество не готово к этому. Еще меньше к этому готова партия, которая в принципе перестала понимать, что происходит. Потому что, с одной стороны, провозглашается новое мышление: перестройка, демократизация, гласность, ускорение. А с другой – половину этих терминов мало кто может расшифровать. И вот съезд народных депутатов. Партии выстрелили в затылок. К примеру, ни один человек из ленинградских коммунистов не был депутатом этого самого съезда.
Г. Саралидзе:
Подожди, а кто стрелял? Делегатов же граждане выбирали? Вот вы говорите: общество было не готово. Не готово к чему?
Д. Куликов:
Тут интересно, как выбирали, сама система. Я сказал: три раза по 750 было, да? 750 депутатов от территориальных округов, 750 от национально-территориальных избирательных округов: по 32 депутата от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 от каждой автономной области. И, наконец, по одному депутату от каждого автономного округа. Невероятно сложная система.
Третья квота – 750 человек: по 100 депутатов от КПСС, ВЦСПС [1] Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.
, кооперативных организаций (колхозов, потребкооперации). По 75 депутатов от ВЛКСМ, женсоветов, организаций ветеранов, научных и творческих организаций. И, наконец, 75 депутатов от других общественных организаций. Кстати, никто не знал, сколько от какой организации надо депутатов, это должна была определять специальная комиссия. На момент прекращения функционирования Съезда 2225 человек было избрано. Это дееспособная организация? Нет, конечно. Наши руководители думали, что создадут фиктивное пространство, которое ни на что влиять не будет. А оно начало жить по своим законам. Партийные функционеры сначала не принимали это всерьез. А потом выяснилось, что им там просто нет места, вот и всё.
Г. Саралидзе:
Им не стало места, потому что так голосовали и так мыслили люди. Это ведь отказ в доверии – или я чего-то не понимаю? То есть сложились такие условия: если человек из обкома, значит, ему не верят.
А. Гаспарян:
Тогда в первый раз в нашей новейшей истории сработали масс-медиа. Вся печать изо дня в день писала о том, что главным тормозом на пути перестройки являются старые обкомовские и райкомовские кадры. А после программы «Время» шла десятиминутная передача «Прожектор перестройки».
Г. Саралидзе:
Его еще «Прожектором перестрелки» называли.
А. Гаспарян:
И главный удар наносился именно по старым партийным кадрам. Почему все не работает? Потому что старые брежневские кадры засели в обкомах, надо их менять.
Д. Куликов:
Механизм торможения это называется. Даже сборник на истфаке был – «Механизм торможения». Как партия сама себя тормозила.
Г. Саралидзе:
Да, тогда были такие дискуссии… Похлеще, чем на Первом съезде народных депутатов.
А. Гаспарян:
Так дискуссия к тому моменту была, по сути, всенародной. Если вся печать каждый день об этом пишет, рассказывает о том, кто является тормозом на пути вселенского прогресса. Современному поколению очень сложно представить очереди за советскими газетами. А тогда в пять утра люди вставали, занимали очередь к киоску.
Г. Саралидзе:
Значит, потребность была?
А. Гаспарян:
Конечно. И естественно, вся думающая аудитория или те люди, которые себя к оной причисляют, голосовали не за коммунистов.
Д. Куликов:
Давайте не будем обманывать самих себя. Потребность – вещь формируемая. У человека есть некий минимум естественных потребностей (в еде, сне, воде), не больше. А сколько этой еды должно быть, какая она должна быть; сон – где и какой – это все уже сформированные потребности из социального мира. Так и потребность, о которой ты говоришь, была сформирована, и сформировало ее политбюро. Ведь с чего все началось? Партия сказала, что все делается неправильно, нужно больше социализма, вернемся к Ленину. То есть все, что было после Ленина, – неправильно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: