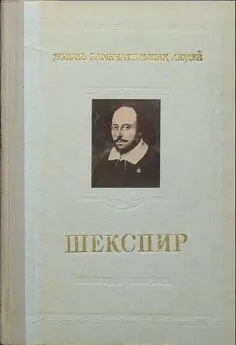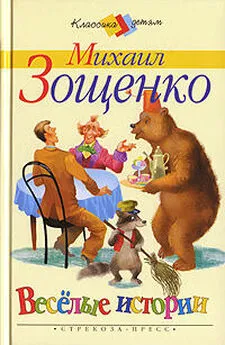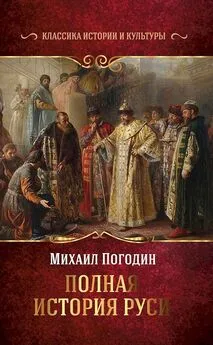Михаил Барг - Шекспир и история
- Название:Шекспир и история
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1979
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Шекспир и история краткое содержание
М. А. Барг — доктор исторических наук, специалист по истории средних веков, им написаны монографии: «Исследования по истории английского феодализма в XI–XIII вв.» (М., 1962), «Народные низы в английской революции XVII в.» (М., 1967) и ряд других.
Шекспир и история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Индивидуалистическое восприятие времени явилось важной предпосылкой формирования исторического взгляда на суть вещей, базой осознания однократности и неповторимости отдельных моментов времени, т. е. представления об индивидуальности исторической эпохи.
Однако переход от индивидуалистического восприятия времени к социальному дался Возрождению нелегко. Он так и не был завершен к концу XVI в. На первом этапе сдвиг заключался лишь в том, что связь «человек — время» предстала в виде системы, на одном полюсе которой находился правитель, а на другом — противостоящие ему обстоятельства. Так, в сочинении Макиавелли «Государь» (1513), наиболее ярко отражающем эту стадию развития исторической мысли, время трактуется как слепая стихия, которую политик, однако, может «оседлать», если он достаточно умен, смел и коварен, если он вовремя «уразумеет» обстоятельства и сообразует с ними свои действия, «совладает» с ними, подчинит их, заставит служить себе. Одним словом, между временем и политиком происходит своего рода состязание в «хитрости».
Второй этап перехода от индивидуалистического восприятия времени к социально-историческому запечатлен в хрониках Шекспира. {57} 57 См.: Аникст А. А. Ремесло драматурга. М., 1974, с. 94; Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971, с. 48.
Хотя интерпретация времени как полностью объективированной силы, противостоящей государю, как изменчивость внешних обстоятельств еще присутствует в них, однако это уже не единственная его интерпретация. Наряду с ней в хрониках прослеживается восприятие времени как причинно-следственной связи в цепи событий, как скрытого объективного порядка, независимого от субъективного опыта наблюдателя («Есть в жизни всех людей порядок некий…» — «Генрих IV», ч. II, III, 1). Это неизбежно приводит Шекспира к догадке (если не к пониманию) об «открытости» исторического времени: историческое время непрерывно, вопреки тому, что моменты (события) предстают разрозненными (прошедшее, настоящее или будущее).
В действительности в настоящем «зримы» семена будущего, в нем же, в свою очередь, дают всходы семена, посеянные в прошлом.
Таким образом, историческим время предстает только как единство всех трех измерений, т. е. только тогда, когда каждое из них — прошедшее, настоящее и в известном смысле будущее — выступает как настоящее, в котором прошедшее и будущее смыкаются в живом сопряжении. Все это звенья одной цепи.
Истолкование времени как «цепи времен» приводит Шекспира к более сложному восприятию истории, чем на это были способны «профессиональные» тюдоровские историографы. С одной стороны, он видит в ней непрерывную смену различных исторических эпох, с другой стороны, история для него выступает как нечто длящееся в самой изменчивости, как глубинное течение, скрытое под поверхностью событий, за капризами фортуны. Очевидно, что только в таком случае становится возможным само сопоставление и различение времен (время «злое», «лихое», «кровавое»). В подобного рода видении заключался несомненный духовный сдвиг. Модус «настоящее» (или, как мы говорим, «современность»), которым христианская историческая традиция, по сути, пренебрегала, теперь превратился в средоточие исторической жизни и энергии. «Настоящее» — решающее звено, соединяющее всю цепь времен. Тем самым из чего-то неподвижного, застывшего, всегда равного самому себе «современность» в шекспировской перспективе преобразуется в момент движения истории, в зеркало всех времен. Но именно поэтому история предъявляет к современникам — «историческим актерам» — свои особые требования, уклониться от которых можно разве что в иллюзиях. Не отсюда ли возникло наше «слушать время»? Недаром Шекспир различает в хрониках «исторических актеров», сознающих свое время и игнорирующих его, дальновидных или ослепленных, сражающихся на его стороне или вступающих с ним в единоборство.
Особенностью трактовки Шекспиром проблемы времени в его «политических», и прежде всего исторических, пьесах является сосредоточение внимания на вопросах: что означает время в сфере политики, в чем проявляется здесь изменчивость, что диктует она стоящим у кормила власти, как соотносятся время и нравственные ценности в сфере политики, и в первую очередь начала личные и общественные? Все эти вопросы могут быть суммированы следующим образом: в чем различие между понятиями «оседлать время» и «быть на вершине времени» в сфере политики и, следовательно, истории?
Основная опасность, которая подстерегала человека, пытавшегося дать ответ, заключалась в иллюзорном представлении, будто достижения «высшей власти» уже достаточно, чтобы ответить на вызов времени, т. е. оказаться «поднятым над временем», иначе говоря, в смешении форм личной и публичной реакции на решающий факт политики — изменчивость. Ренессансная этика сыграла злую шутку с ренессансной политической философией: она содействовала превращению высшей публичной ценности своего времени — государства — в олицетворение личной доблести его носителей. Столкновение между личным и публичным выражением содержания основной этической ценности эпохи Ренессанса — virtù (доблести) — составляет стержень драматического конфликта в указанной группе пьес.
Только что возникшее из хаоса феодальных усобиц государство манило к себе охотников любым способом приобщиться к его престижу, знаками публичной власти «засвидетельствовать» свое право пережить физическую смерть. Но поразительно, как мало находилось в их среде лиц, способных задуматься над сутью этой новой власти, над смыслом «доблести публичной». Неумение различать личные и публичные аспекты доблести и проистекающие отсюда иллюзии, трагические ошибки и тяжкие преступления — таковы истоки событий, связанных с результатами вторжения исторического времени в сферу политики и истории.
Из того обстоятельства, что человек «помещен» в беспрерывно меняющийся мир, в котором единственной реальностью является моментальная ситуация, для гуманиста возникла сложная социально-этическая проблема: какова роль моральных ценностей в процессе столкновения ограниченного временем человека с еще более мимолетными ситуациями? Как соотносятся и взаимодействуют в таких случаях воля «исторического актера», диктат «моральных ценностей» и требования времени. Художественное исследование Шекспиром этих вопросов и составляет одну из наиболее содержательных граней его исторических хроник.
Исторический мир Шекспира полон конфликтов и волевых решений, кипения страстей и трагических выборов. Одна из примечательных особенностей художественного исследования Шекспиром этих ситуаций в хрониках заключалась в том, что поведение «исторических актеров» рассматривалось им сквозь призму времени. Только подобным образом можно было убедиться в том, что «выбор», представлявшийся с точки зрения данной ситуации (изолированного момента) единственно «целесообразным», оказывался в более длительной перспективе роковым, трагическим. В этом разновременном (и тем самым многоплановом) рассмотрении одной и той же исторической ситуации и воплотился столь характерный для стиля исторического мышления Шекспира прием — измерение политической этики историей. Открывавшаяся при этом взору многоликость действительности заставляла задумываться над всеобщей неустойчивостью вещей, подвижностью всех граней и постоянно различать видимость явлений и их изнанку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: