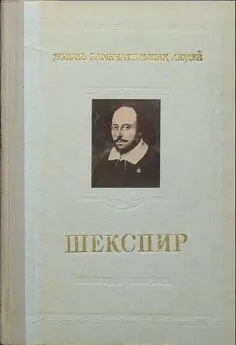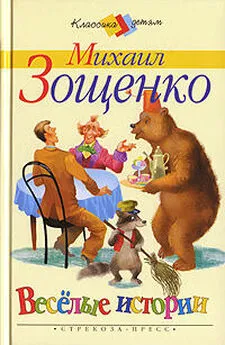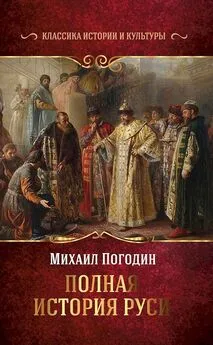Михаил Барг - Шекспир и история
- Название:Шекспир и история
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1979
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Шекспир и история краткое содержание
М. А. Барг — доктор исторических наук, специалист по истории средних веков, им написаны монографии: «Исследования по истории английского феодализма в XI–XIII вв.» (М., 1962), «Народные низы в английской революции XVII в.» (М., 1967) и ряд других.
Шекспир и история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но ведь история — не только прошлое, это и настоящее и будущее. Драматизация подобного материала давала возможность хотя и косвенно, но совершенно недвусмысленно комментировать настоящее, раскрывать содержание драматических конфликтов своего времени в терминах реальностей человеческой жизни и человеческих отношений.
В каждом более или менее значительном характере Шекспир раскрывает определенную грань логики самого исторического процесса, а в столкновениях этих характеров — скрытые пружины, двигавшие этот процесс. Поэтому определять жанр драмы, созданной Шекспиром, только эпитетом «историческая» представляется недостаточным. Речь должна идти о философско-исторической драме.
В целом историческое видение Шекспира складывалось постепенно, уточнялось и обогащалось от одной хроники к другой, и в той же степени уменьшалась зависимость драматурга от организации материала и интерпретативных принципов его источников. Так, первая тетралогия гораздо больше, явственнее окрашена провиденциалистской доктриной истории, нежели вторая. В особенности «Ричард III». Если вспомнить, что в этой хронике речь идет о событиях, непосредственно связанных с воцарением правившей в стране династии, то довольно точное следование Шекспира установившейся традиции можно объяснить не только недостаточностью опыта. Определенная печать неисповедимого «промысла божия» лежит и на более отдаленной по времени (хотя и первой по написанию) трилогии «Генрих VI». Генрих VI — несчастный король, он унаследовал корону годовалым младенцем. Врагам королевского мира и порядка только этого и нужно было, чтобы ввергнуть страну в хаос междоусобиц. Все же этого оказалось мало: король-младенец также унаследовал и неоконченную войну с Францией, удача в которой выпала на долю Франции (кстати, не только из-за пробудившегося в недрах ее народа чувства патриотизма, но не в малой степени также из-за все ярче разгоравшейся распри в верхах английской знати). Наконец, едва повзрослев, по «совету» одной из придворных клик Генрих заключил политически бессмысленный брак, только усиливший интриги и соперничество при дворе.
Все это было вполне созвучно провиденциалистской мотивировке событий, столь характерной для Холла и Холиншеда.
Однако уже в этих опытах Шекспир проявил значительную самостоятельность, сказавшуюся не только в отборе и сочленении фактов, диктуемых законами сценического искусства, но и в постановке того, что мы назвали бы сверхзадачей — вопроса о смысле истории. Уже в первой тетралогии заключена парадоксальная мысль: Генрих VI был слишком человек, чтобы в сложившихся условиях оказаться удачливым королем. Правда, Шекспир здесь просто «повторил» открытие Макиавелли: политическая и человеческая (житейская) мораль — две морали, но в отличие от последнего Шекспир отверг такое раздвоение морали, которая оправдывает аморальность (с человеческой точки зрения) политики «высшими интересами государства». Вот почему в рассматриваемой трилогии по мере приближения к финалу смещаются акценты: Генрих VI предстает не как непригодная личность, несоответствующая требованиям времени, а, напротив, как личность, возвышающаяся над миром безграничного честолюбия, предательства и нечеловеческой жестокости. В той мере, в какой все более беспомощным становится король Генрих, чем явственнее становится его банкротство как короля, политика, военачальника, тем больше он как человек выдвигается драматургом в центр драмы в качестве судьи над происходящим вокруг. Столкновение Генриха VI лицом к лицу с Ричардом Глостером символизирует содержание, пожалуй, основного урока всей трилогии: Генрих VI — негодный политик, поскольку он руководствовался на троне нормами общечеловеческой морали. С другой стороны, Ричард Глостер, прекрасно усвоивший различие между этими нормами и нормами морали политической, пытается поставить последние на службу не идеалу государственности, а своего личного безграничного честолюбия. Иными словами, Ричард Глостер — воплощение чисто феодального династа, прошедшего выучку в школе ренессансной политики.
Итак, каковы же характерные черты историзма Шекспира? Наиболее важная его особенность заключалась в том, что драматизированная им действительность была развивающейся, меняющейся.
Этот факт устанавливается с наибольшей очевидностью при рассмотрении того, как Шекспир осмысливает временной параметр истории. Сознание различия исторических времен — даже в рамках одного столетия — обнаруживается при сравнении первой и второй тетралогии. Так, мир Ричарда II явно более архаичен в сравнении со временем Генриха IV, не говоря уже о времени Ричарда III. И дело не только в том, что в первом случае мы еще сталкиваемся с таким анахронизмом, как судебный поединок, который уже трудно представить себе в более позднее время. Гораздо важнее, что отмеченное выше различие времен раскрывается в различных концепциях власти и столь же различных формах распоряжения ею.
Далее, в хрониках Шекспира явно прослеживается мысль о том, что, вопреки текучести, непостоянству, зыбкости дел человеческих, вопреки зримому хаосу событий, интригам, заговорам, переворотам, мятежам и кровопролитиям — этим следствиям неистовств постоянно борющихся на исторической сцене сил, в истории действуют определенные закономерности, которые способен постичь человеческий разум. На вопрос, возможно ли из наблюдений над причинами отдельных и разрозненных событий сделать вывод о более общих основаниях исторических перемен, Шекспир отвечает утвердительно.
Однако обнаруживаемые им закономерности в истории столь же бедны, сколь узкой рисовалась вообще сфера исторического бытия. Начать с того, что для Шекспира (как и для гуманистов вообще) из этой сферы была почти полностью изъята область социального. В целях аналитических сфера социальной жизни делилась между политикой (включавшей общественное устройство) и этикой (включавшей общественную и индивидуальную мораль). Но что же с этой точки зрения являлось субстратом истории или, иначе, что в обществе было подвластно истории (т. е. изменению), если, разумеется, суть истории вслед за гуманистами усматривать именно в изменениях? Из анализа хроник Шекспира следует, что общественный индивид представлен в истории только посредством «прирожденных» сословных функций, он включен однажды и навсегда в «государственное целое», «политическое тело» и только как носителя этих функций его и знает история.
Неизменность последних рассматривалась в одно и то же время и как предпосылка, и как следствие неизменности существующего общественного строя. Как общественный индивид, таким образом, человек стоял вне истории. Но, тогда объектом истории, или, что то же, субстратом изменений, могла быть, с одной стороны, только сфера политики (включая и международные отношения), а с другой — сфера морали. Однако если Возрождение уже пыталось рационально объяснить первопричину изменений в сфере политики (ею могла выступить лишь индивидуальная мораль правителя — смена порочного правителя добродетельным или наоборот), то изменения в сфере общественных нравов (в рамках одного и того же общества) оно лишь констатировало, но объяснить даже не пыталось. Вместе с тем поскольку постулаты индивидуальной морали неизменны, постольку оказывалось, что к объяснению сферы исторического в конечном счете привлекались аргументы из сферы внеисторической. Исходя из этого, обратимся к знаменитому рассуждению Генриха IV.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: