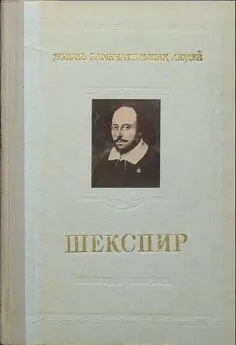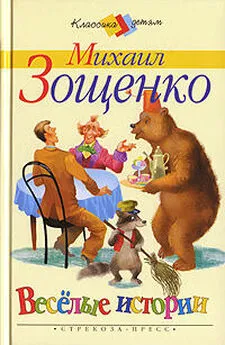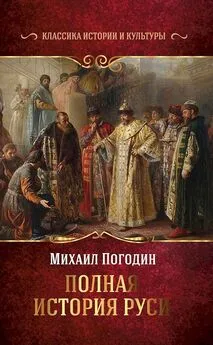Михаил Барг - Шекспир и история
- Название:Шекспир и история
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1979
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Шекспир и история краткое содержание
М. А. Барг — доктор исторических наук, специалист по истории средних веков, им написаны монографии: «Исследования по истории английского феодализма в XI–XIII вв.» (М., 1962), «Народные низы в английской революции XVII в.» (М., 1967) и ряд других.
Шекспир и история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, в той мере, в какой золото было способно доставить нуворишу и титул и власть, титул и власть, в свою очередь, ценились прежде всего как источник золота.
Все общественные связи отныне базировались на корысти и расчете, золото превратилось в конечную цель человеческой деятельности.
Неудивительно, что эталоном всех общественных связей стала открыто иди завуалированно выступать сделка купли-продажи.
«В наше продажное время, — замечает Фальстаф, — добродетель так упала в цене, что истинным храбрецам остается только водить медведей. Люди остроумные сделались трактирными слугами, и вся их изобретательность тратится на составление счетов. Все остальные качества, свойственные человеку, в наш подлый век, стоят дешевле крыжовника» («Генрих IV», ч. II, I, 2). В этом поставленном на голову, жестоком мире трудно стало дышать. Еще труднее стало думать. Там, где торжествует вселенское зло, разум превращается в пытку, наделенному им остается скоморошничать.
Отклонилась река жизни от исконного русла, и ее берега оказались усеянными людскими пороками. Однако, может быть, самое невообразимое отклонение от «исконного» порядка вещей заключалось в том, что вывернулся наизнанку смысл самого понятия «порок». {104} 104 См.: Hill Ch. Change and Continuity in 17th Century England. London, 1974, p. 18 ff.
Понимание порока как категории моральной, как свойства «природы» человека (присущего ему от рождения или приобретенного) сменилось представлением о пороке как о категории социально-имущественной. XVI век и здесь полностью отошел от средневековых «поучений». В самом деле, средние века льстили бедности, поднимали ее на ступень «святости» или по крайней мере приближали к ней на кратчайшее расстояние. Этика Возрождения и в особенности Реформации исходила из тезиса противоположного: бедность отождествлялась априори с пороком, она — зримый знак порока, более того, «гнездо», «источник» всевозможных пороков. Другими словами, бедность — свидетельство человеческой неполноценности ее носителя. И не было в елизаветинской Англии фигуры более осуждаемой и презираемой, более отверженной, чем бедняк. О бедняках говорили не иначе как о «подонках общества», «бродягах», заведомых «ворах». {105} 105 См.: Ibid.; Rees M. Op. cit., p. 211.
Покуда нищий я, браниться стану
И говорить, что худший грех — богатство;
А став богатым, буду говорить,
Что нет порока, кроме нищеты.
Все различие в социально-этической значимости этих оценок заключалось в том, что греховность богача имела отношение к его статусу в «мире потустороннем», в то время как «порочность» бедняка указывала на его статус в жизни земной, т. е. в обществе. Очевидно, что этика, построенная на данном принципе, не могла не быть классово ярко выраженной, эгоистичной. И это наиболее убедительное свидетельство бессодержательности — в плане социальном — абстрактного идеала ренессансной личности. Его историческая ограниченность обнаруживается, в частности, в том, что в этом идеале добродетель имущественной обеспеченности, освобождающей от изнурительного физического труда, была чем-то вроде молчаливой предпосылки. Нет ничего удивительного, что за пределами круга самих гуманистов личность, наделенную выдающимися моральными и духовными качествами (если следовать указанному идеалу), имело смысл искать почти исключительно в среде «сенаторского класса». {106} 106 См.: Hexter J. The Education of Aristocrats in the Renaissance. — Journal of Modern History, 1950, v. 22, p. 30.
Сама мысль о возможности обнаружить подобную личность среди пахарей и поденщиков, горшечников и медников показалась бы просвещенному уму дикой, в частности в условиях тюдоровской Англии. Недаром же все наставления о воспитании по примеру трактата Элиота «Правитель» адресовались дворянам — как прирожденным магистратам.
Между тем Шекспир неоднократно повторяет мысль, что ограничить человека заботой о хлебе насущном — значит свести его до уровня животного, лишить его всех возможностей проявить свое подлинное, духовное, творческое призвание. «Сведи к необходимости всю жизнь, — заметил Лир, — и человек сравняется с животным» («Король Лир», II, 4). Так же думал и Гамлет:
Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше,
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не для того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он…
К этому замечательному рассуждению Гамлета требуется лишь небольшой комментарий. Одно дело — люди, по своей воле считающие «еду и сон» высшим благом на земле, другое дело — люди, поставленные в общественные условия, вынуждающие их всю жизнь смотреть на вещи так же. Первых гуманисты по достоинству высмеяли, вторых просто не замечали. Моралисты Возрождения наиболее интенсивно разрабатывали проблему моральной ответственности личности перед обществом. Индивид обретает, утверждает себя только в обществе себе подобных, через общество. Между тем Шекспир ясно различал и другую сторону этой проблемы — социальную ответственность общества за судьбу индивида, за то, в какой мере условия позволят ему проявить, реализовать свои «божественные потенции». Только очень немногие гуманисты XVI в. заметили эту сторону проблемы — человек и общество. {107} 107 См.: Eagleton T. Shakespeare and Society. London, 1967, p. 11 ff.
В картине общественной организации, как она рисовалась человеку XVI в., королевской власти принадлежало центральное, ключевое место. В ней усматривали начало и конец всех общественных связей, истоки «общественного блага» или социальных зол, обрушивавшихся на народ. Разумеется, это была идеализация роли государственного начала в общественной жизни. Однако она не столь уж далека была от действительности. Если вспомнить, что речь идет об эпохе абсолютизма, когда стечение исторических обстоятельств действительно дало возможность королевской власти возвыситься настолько, чтобы на время превратиться в вершительницу судеб европейских народов, то значение, которое придавалось ей в общественном сознании интересующей нас эпохи, легко объяснить.
Почти одновременно с новой (позднефеодальной) формой государственности возникло и новое политическое учение. Его создателем был итальянский гуманист Макиавелли. Известно, для того чтобы вскрыть природу публичной власти как таковой, Макиавелли счел нужным освободить эту категорию от всех элементов житейской морали, которые в его глазах только затемняли суть дела. И в этом действительно заключалась предпосылка превращения политики в науку. Однако политическая мысль Англии XVI в. продолжала двигаться в традиционном русле средневековых доктрин. Она просто не была в состоянии рассуждать о политике иначе, как в связи с личной моралью правителя, ее осуществляющего. {108} 108 См.: Bloom A. Shakespeare Politics. New York, 1964, ch. II.
И это потому, что общественное сознание тюдоровской Англии еще не видело различий между моральными основаниями отношений частных и публичных отношений между «соседями», с одной стороны, и между королем и его подданными — с другой. Кем бы ни был король с точки зрения политической доктрины, поскольку он смертен — он человек, а потому ко всем его поступкам применимы постулаты «общечеловеческой» морали, и первым среди них являлся в глазах современников Шекспира принцип «добрососедской взаимности».
Интервал:
Закладка: