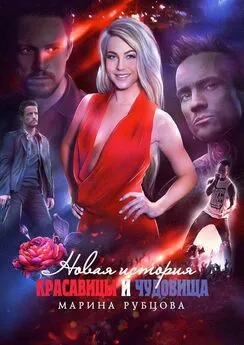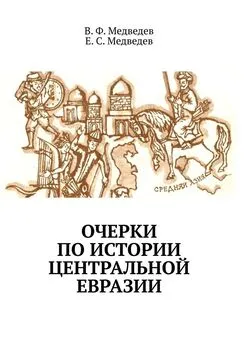Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть II
- Название:Новая имперская история Северной Евразии. Часть II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ab Imperio
- Год:2017
- ISBN:978-5-519-51104-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть II краткое содержание
Новая имперская история Северной Евразии. Часть II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вынужденно разрушив костяк имперских правительственных институтов как «контрреволюционных» (отменив власть губернаторов, распустив полицию, потеряв контроль над армией) и фактически упразднив парламент, Временное правительство сделало структурно неразрешимым кризис, который вызвал падение режима Николая II. Из трех главных институтов, на которые опиралось единство имперского общества, революцию пережили лишь инициативы общественной самоорганизации. По сути, Временное правительство и было режимом победившей политической нации имперской «общественности», но вне посредничества Учредительного собрания или, хотя бы, Думы не существовало физической возможности координировать единство этой нации, помогать оперативно вырабатывать компромиссные решения возникающих перед страной проблем, реализовывать политический потенциал общественности как «нации». В результате, мобилизованная общественность начала стремительно расходиться по более конкретным частным «национальным» проектам (политическим, этническим, культурным), и лишь привычка воспринимать себя в общем российском имперском пространстве объясняет, почему Россия продолжала оставаться «естественной» рамкой для большинства из этих локальных инициатив.
Одним из таких частных общественных проектов был Петроградский совет, который изначально возник как орган самоорганизации и координации протестующих рабочих с целью поддержать Временное правительство. В течение считанных дней произошла стремительная радикализация Совета и переход в оппозицию к правительству. Этот резкий разворот в значительной мере объяснялся структурной ситуацией отсутствия всякой обратной связи и политического представительства после февральской революции. Подобно Комитету членов Государственной Думы, Совет также был сформирован вне формальных процедур массового волеизъявления, явочным порядком. Но, во всяком случае, в него вошли люди с «улицы», и такое примитивное представительство давало гораздо больший авторитет (а значит, и готовность подчиняться ему), чем у келейно назначенного Временного правительства. Согласившись стать органом не только рабочих, но и солдатских депутатов, Совет упрочил свою претензию на представительство участников восстания и получил в свое распоряжение главную движущую силу февральского переворота — деморализованную солдатскую массу тыловых частей.
Теоретически, в Петроградский совет вошли по одному представителю от каждой тысячи рабочих и от роты солдат, но никакой формальной организации процесса делегирования и способа проверить его не существовало. Еще важнее то, что отсутствовал сам критерий «представительства»: речь шла о делегировании конкретных индивидуумов, даже не членов партий с определенной программой. Невозможно было заранее спрогнозировать, какие решения будет поддерживать конкретный делегат — тем более, в динамичной, постоянно меняющейся обстановке. Представление о том, что рабочий «представляет» других рабочих, могло существовать лишь в глубоко книжном, идеологическом и «социологическом» восприятии общества, признающим абстракцию «пролетариата» (или «буржуазии», или «русских», или «москвичей») реальным внутренне однородным коллективом. Поэтому претензия советов на власть была практически столь же абстрактной и формальной, как и у Временного правительства — проекта другой группировки общественности. Однако если Временное правительство подчеркивало законность наследования властных полномочий от «старого режима» (тем самым дополнительно компрометируя себя), то Петроградский совет указывал на свою легитимность в качестве нового революционного органа — исключительно благодаря своему социальному составу. Если большинство Совета составляли конкретные рабочие и солдаты, ожидалось, что Совет отражает интересы этих социальных слоев в целом.
Столь фантастическая логика, в сочетании с отсутствием реального представительства избирателей (кроме «социологического»), загнала советы в ловушку. Самые маргинальные политические силы могли рассчитывать на поддержку советов, если формально соответствовали критериям «социальной базы», представителями которой безосновательно объявляли себя советы. Они не могли позволить себе игнорировать «голос народа» — но не существовало способа оценить весомость раздающихся «голосов». Играя роль единственного выразителя «народных интересов», Совет навязывал всему населению программу, которую самому Совету могли навязать самые маргинальные группировки или вовсе несколько активных деятелей в его руководстве.
Это стало понятно в первые же дни существования «советской власти». Утром 2 (15) марта 1917 г. в газете «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» (основанной двумя днями раньше в захваченной типографии газеты «Копейка») вышел от имени всего Совета «Приказ № 1». Этот документ подчинял Совету войска гарнизона, отменял единоначалие в армии, вводя во всех подразделениях выборные комитеты «от нижних чинов», которым и подчинялись отныне как солдаты, так и офицеры. Как выяснилось, даже большинство руководства Петросовета — его исполнительный комитет — было не в курсе этого «приказа», который не был физически подписан его членами. Существует предположение, что опубликованный документ вообще не имел отношения к тексту, который разрабатывала одна из комиссий совета под давлением солдат (и к пожеланиям самих солдат), а был целиком написан редактором газеты, активистом большевистской партии Владимиром Бонч-Бруевичем (1873–1955). Тем не менее, несмотря на свое отрицательное отношение к тексту «приказа», руководство Петросовета не отказалось от него и продолжало защищать его от критики: иначе оно выглядело бы предателем интересов «солдатской массы».
10.17. Великая имперская контрреволюция
Даже если бы в советы действительно проходили представительные выборы, сама претензия одного из многих проектов самоорганизации общества на руководящую роль в стране являлась структурной предпосылкой гражданской войны. Один «частный интерес» всегда противоречит другому, тем более что одни и те же люди в разных социальных ипостасях могут иметь прямо противоположные интересы. Так, призванный из псковской губернии солдат вполне ожидаемо желал вернуться домой и не воевать — и солдатский совет естественно поддерживал отмену воинской дисциплины. Но в иной своей ипостаси — псковского крестьянина — тот же человек, вероятно, не желал оккупации деревни германскими войсками и готов был сражаться. Наконец, воюя на фронте, он мог осознать, что его жизнь напрямую зависит от поведения других, и если угроза военно-полевого суда может помешать соседней роте бежать с позиций, побросав оружие, то военно-полевой суд не стоит отменять. Структурная имперская ситуация многомерности социальных ролей никак не отменялась с падением монархии. Координацией этих разных ипостасей с разными интересами одного и того же человека (а тем более, разных групп интересов) мог заниматься парламент, включающий представителей разных партийных платформ и программ. Но никакого надпартийного и надклассового координационного органа так и не появилось, а блюдущие свои «ведомственные» интересы советы рабочих депутатов имели непримиримые разногласия с советами крестьянских депутатов, не говоря уже о проектах самоорганизации других социальных групп.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: